Дмитрий Константинович Казённов
Жизнь без бога: Где и когда появились главные религиозные идеи, как они изменили мир и почему стали бессмысленными сегодня
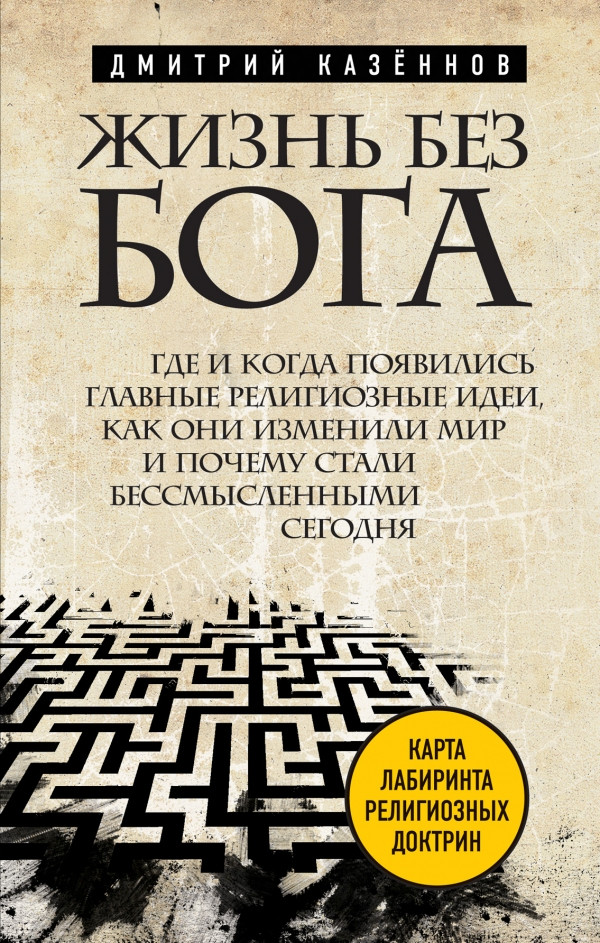
Аннотация
Как появились популярные представления о божественной сущности, высшем благе, вечных ценностях, бессмертной душе, истине, смысле и первопричине всех вещей; о чем мы говорим, когда говорим о духовной жизни, душе и Божьем промысле; почему религиозные представления — это знание ни о чем; что мы находим, когда начинаем искать Бога в мире и в истории; есть ли разница между истинно верующими и чудаковатыми поклонниками эксцентричных вещей; почему в религиозной жизни так много истерии и невежества, делает ли вера совершеннее человека и мир; почему политики так хорошо относятся к религии. Эта книга — новое слово в вечном разговоре о вере и неверии. Она дает ориентир: главное в жизни с Богом или жизни без Бога — это жизнь, а религиозные представления очень часто становятся тем самым топором, который вонзают в штурвал, чтобы сбить судно нашей человечности с курса на здравый смысл и духовную зрелость.
Дмитрий Казённов
ЖИЗНЬ БЕЗ БОГА
Где и когда появились главные религиозные идеи, как они изменили мир и почему стали бессмысленными сегодня
Введение
Всякий идеализм есть ложь перед необходимостью.
Фридрих Ницше
Неверующему человеку может быть сложным начать разговор о религиях. Сложность заключается не в том, чтобы каким-то образом преодолеть влияние религиозных представлений и «сбросить с себя оковы веры», а как раз наоборот, в том, чтобы каким-то образом реконструировать причины поведения и эмоциональных реакций верующих людей.
Начать разговор лучше всего с того, насколько обоснованны и осмысленны те или иные утверждения. Как только я расскажу о соотношении научного метода и религиозных догм, рассказать об истории атеизма будет значительно проще. Сразу же можно будет сказать о том, как естественнонаучные представления о происхождении человеческого вида и об устройстве человеческого мозга разрушают классический миф о душе и теле, об интеллекте и замысле. Станет понятным, почему все наиболее значимые атеистические и пронаучные авторы Нового времени вроде Жюльена Ламетри или Поля Гольбаха были эмпириками, а рациоцентристы вроде Гегеля и его последователей создали свои собственные спекулятивные мифы об Абсолюте. Наконец станут более понятными позиции современных атеистических публицистов вроде Докинза, Деннета или Хитченса. А после этого будет просто подвести итог разговору о «жизни без бога». Как мне кажется, несложно будет показать, что человек ничего не теряет в своей жизни, если обходится без излишне сложных и лишенных практического смысла метафизических умопостроений. Мне кажется очевидным, что религия никак не влияет на наши моральные чувства и не помогает нам жить. Если мы можем отличить истину ото лжи, а истину и ложь от непроверяемых утверждений, нас труднее обмануть. Если нам известно о способах демагогического убеждения, мы не позволим манипулировать собой. Если мы понимаем, что оценочные суждения не могут быть выведены из фактов, мы не будем излишне категоричны в наших оценках. А когда мы осознаем все это, религия просто не будет нам нужна.
Религии свойствен философский изъян. Этот изъян невозможно устранить. Предусмотрительный апологет может осудить трагические или преступные эпизоды церковной истории, сославшись на пороки тварного мира или божественное испытание. Можно принести извинения за действия инквизиции, но нельзя исправить присущее религиозным идеям принятие метода умозрительных рассуждений, фактическое отсутствие у религии достоверного знания о чем-либо. И именно по причине того, что философские корни религии слабы, следует начать разговор с вопросов философии, а не собственно религии.
Для постороннего вере человека религиозность выглядит странной. Любое религиозное учение по своей сути является не информацией о фактах или событиях, которую можно просто принять к сведению, а оценочно нагруженным способом убеждения. Религия начинается с выбора целевой аудитории и выбора способов влияния на нее. Каждый элемент каждого мифа в мире направлен на внушение. В этом религии не отличаются от маркетинга, политической пропаганды, мошенничества или сетевой провокации (троллинга). Смысл игры в том, чтобы вызвать у человека ответную поведенческую реакцию, спровоцировать его, в сущности — контролировать поведение жертвы.
Человек, отрицающий содержание религиозного учения, уже принадлежит к целевой аудитории религиозных деятелей, апологетов и миссионеров. Я имею в виду не логическую сторону вопроса, а эмоциональную. Отрицание — это сильная поведенческая реакция. Я бы стал отрицать только то, что имело бы непосредственное значение для меня и моей жизни, например несправедливые обвинения, которые могли бы разрушить мою репутацию. Но религиозные представления, мифы и городские легенды вызывают лишь недоумение. Неверующий человек — это в первую очередь тот, кому само содержание религиозных сюжетов не интересно, чуждо, бесконечно далеко и кажется лишенным всякого смысла. В этом и заключается принципиальная разница между верой и неверием.
Представьте себе детей лет пяти-шести, которые играют на пустыре во дворе спального района, где когда-то были частные дома. Пустырь полон удивительных вещей (как в той песне группы «Воскресение»: «А когда был целым миром двор, был полон тайн чердак»): на нем могут быть целые джунгли сорной травы, подвалы снесенных домов, «каньоны» строительных котлованов, брошенная строительная техника, сложенные железобетонные конструкции, образующие лабиринт. Теперь представьте себе, что дети придумали небольшой и несложный миф: в груде строительного мусора на дальнем краю пустыря живет чудовище. Тот, кто решится туда отправиться, обратно не вернется. Один из ребят не согласен. Он говорит, что чудовищ не бывает, по крайней мере, не на их пустыре. Он отрицает то, о чем убежденно спорят его сверстники. В то же время он не полезет доказывать своим друзьям, что все в порядке и бояться нечего. Возможно, старая груда мусора просто кажется ненадежной, а под ней может оказаться яма от старого подвала когда-то стоявшего здесь частного дома. Возможно, чудовище на самом деле где-то рядом.
Теперь представьте себе, что на пустырь приезжают строители. Одна из первых задач — вывезти строительный мусор, разровнять бульдозерами площадку, похоронить последние следы дореволюционных трущоб под толщами грунта, подготовить территорию к сооружению типовой школы и многоэтажных жилых домов. Для строителей, в отличие от шестилетних мальчишек, пустырь — это не целый мир, в котором те выросли, в котором происходили самые запоминающиеся события, где были драки, строились шалаши, жглись костры и плавился свинец. Пустырь — это только пустырь и ничего больше. Пустой участок земли в кольце панельных новостроек, один из сотен тысяч таких объектов, повседневная работа, что-то не заслуживающее особого внимания. Между опытом, мыслями и мышлением человека, прожившего десятилетия, и «внутренним миром» ребенка-дошкольника есть целая пропасть событий, воспоминаний, навыков, поведенческих решений и ошибок.
Что могут сказать о «чудовище под грудой мусора» ребенок из первого примера и строитель из второго примера? Чудовища, конечно же, не существует. Вообще-то сложно себе представить ситуацию, в которой человек, работающий на сдельной основе, замотавшийся за последние месяцы, возможно, имеющий проблемы в семье или с жильем, вообще станет говорить о чудовищах, эльфах, пришельцах и тому подобных вещах. Эти двое из нашего воображаемого примера сказали бы одно и то же, но совершенно по-разному, и за их утверждениями скрывались бы совершенно разные поведенческие причины. Ребенок верит своим сверстникам. Он воспринимает все, что говорят окружающие его люди, как нечто, с чем нужно считаться . Он способен различить лишь самую откровенную ложь и самый очевидный вымысел. Способность к критическому анализу, способность игнорировать внушение, способность быть избирательным в том, на что обращать внимание, придут позже, с опытом. Но даже тогда эти способности будут требовать усилий. Для юного скептика слова сверстников — вызов. Возможно, он чувствует протест. Возможно, его характер отличается склонностью к соперничеству и упрямством. Возможно, он попытается заручиться поддержкой авторитетных для него людей. Но как бы там ни было, для него это проблема. Так уж получилось, что в этом возрасте дети — целевая аудитория сказок, мультфильмов или страшных историй, какие обычно рассказывают ночью в летних детских лагерях. Ребята из лагеря будут бояться вызывать домового. Этот несерьезный пример касается очень серьезных вопросов: человеческих поведенческих способностей и навыков, природы внушения, убеждения и внимания, принципов работы мозга и устройства культуры. Спустя десятилетия те, кто боялся домового, будут ненавидеть внешнего врага.
Представьте себе другой пример: обычной домохозяйке и человеку, работающему в экономической или правовой сфере, предложили поучаствовать в финансовой пирамиде (мошеннической организации, в которой проценты по вкладам старых членов выплачиваются за счет привлечения новых членов). Домохозяйка слышала что-то о финансовой пирамиде и возьмется вслух доказывать (скорее себе, чем агенту пирамиды), что финансовые пирамиды — это мошенничество. Однако мошенник — хороший психолог, он по роду своего занятия должен быть изобретателен и постарается сыграть на колебаниях чувств своей жертвы. Коммивояжеры и мошенники не бросают просто так тех из своих жертв, кто начинает протестовать. Финансист же или юрист совсем не станут обсуждать предложение. Для них это вообще не вопрос.
Для человека, знакомого с историей научного метода и антропологией, имеющего образование и опыт, проблема «веры и неверия» — это вообще не вопрос. Трудно буквально и непосредственно воспринимать сюжет, если ты знаешь его происхождение. Мотив умирающего и воскресающего бога слишком широко распространен на Средиземноморье с бронзового века, чтобы казаться уникальным историческим откровением. Логика, лежащая в самом основании богословия, появилась на свет в Афинах времен Сократа. Для антропологов содержание имеющих одинаковую формальную структуру мифов взаимозаменяемо. Для философов история метафизики — это история выдающихся заблуждений и замечательных логических ошибок. Есть огромное количество причин, которые в совокупности делают восприятие всерьез содержания религиозных представлений просто невозможным. И дело здесь не только в невозможности воспринять миф буквально. Есть среди всего того, что доступно разуму, нечто несравнимо более важное, сложное и интересное, чем эскапизм, экзальтация и фантазии о власти религиозных мифов. Когда мы приобретаем новое знание и новый опыт, само наше воображение меняется. Иногда нечто менее общее и менее полное мелодраматическим пафосом, но более конкретное и более близкое нашей собственной жизни становится для нас несравненно более интересным.
Что же до мифов? Религиозные представления имеют метафизическую природу, то есть лежат вне всякой мыслимой проверки, вторичны по своей нарративной структуре множеству еще более архаичных мифологических сюжетов, оценочно нагружены (выдают оценки за факты), внутренне противоречивы, служат самым низким политическим целям реальных религиозных организаций, но что самое главное — предсказуемы и неинтересны . Между религиями, культами, политической пропагандой, маркетингом и мошенничеством нет четкой границы. Религиозная вера, потребность придавать эмоциональное значение мифологическим сюжетам, — как доверие внушению: некритична, эмоциональна, связана с биологическими механизмами человеческой коммуникации, нашей потребностью реагировать на поведение соплеменников. Для неверующего человека содержание религиозных сюжетов не имеет смысла по такой причине, по какой не заслуживают внимания ни мысли о чудовище на свалке, ни мысли о быстром обогащении при помощи схемы Понци1. В жизни есть вещи значительно более серьезные, чем воображаемые монстры и перспективы стремительного обогащения.
Можем ли мы вернуться в детство? В некотором смысле да, но с известными ограничениями. Мы можем оценить хорошую историю для детей. У нас остались ностальгические воспоминания о лучших моментах наших жизней. Но есть опыт и знания, которые делают невозможным воспринимать мир, как раньше. Качественно изменилось все то, что мы собой представляем: характер, поведение, память. Однажды оказывается, что на некоторые вещи невозможно смотреть, как раньше. Это касается не только отдельных людей, но и культуры в целом. Даже современные сюжеты о религиозности в массовой культуре как бы «извиняются» перед аудиторией.
Роман «Жизнь Пи» Янна Мартела и фильм по этому роману изображают миф компенсирующей реальность аллегорией. Аудитория свободна делать выбор между двумя историями на свой вкус, и читателю действительно может показаться более приличным рассказ о зебре, орангутанге, гиене и тигре. Но выбор предпочтений — не вопрос истины. Мысль о религиозном сюжете как о способе принятия жизни не нова, об этом писали и Зигмунд Фрейд, и Фридрих Ницше. Выходит, филология разрушает религию, потому что низводит последнюю на уровень литературы.
Роман Карла Сагана «Контакт» и одноименный фильм как бы «примиряют» религию и науку, уподобляя эмоциональную составляющую «поиска истины» в том и в другом случаях. Особенно неловкой выходит авторская фантазия с числом π, бесконечной десятичной дробью. Любая бесконечная десятичная дробь может с некоторой вероятностью содержать в своей десятичной части любую комбинацию, в том числе такую, которая бы совпала с каким-либо кажущимся нам осмысленным значением, подтверждение чего можно найти в теореме 146 «Введения в теорию чисел»2 Годфри Харди и Эдварда Райта. В конце концов, это бесконечная десятичная дробь. Но более важным является то, что число «пи» не является физической константой в отличие, например, от радиолинии атома водорода или скорости света в вакууме! Это математическая константа, которая не имеет никакого отношения к эмпирической действительности, а лишь обозначает отношение длины евклидовой окружности к длине ее диаметра. Геометрия и математика, как на этом настаивали Бертран Рассел и Альфред Уайтхед в «Принципах математики», являются лишь способами описания действительности, подобными обычному языку. Математическая истина — это не идеальная истина Платона, не априорные синтетические суждения Канта, а лишь лингвистика. Когда мы говорим о том, что 2+2=4, мы утверждаем лишь, что обозначаем при помощи символа «4» то же, что и при помощи символов «2» и «2» вместе. Строго говоря, это тавтология. Допускать, что какой-то «нечеловеческий» разум (опустим на секунду сложность дефиниции интеллектуальности) пользуется евклидовой геометрией, лишь чуть менее наивно, чем ждать от такого разума владения английским языком.
Нельзя сказать, что содержание художественных произведений Мартела или Сагана сколько-нибудь удивляет, но не следует быть к литературе особенно строгими (если только вы — не известный литературный критик). В итоге это довольно вежливые к чувствам верующей аудитории литературные произведения, приятные, как чашечка кофе. Это не Кристофер Хитченс и не Сэм Харрис. Когда я смотрю фильм или читаю книгу, то не могу выкинуть из головы мысль, что это тоже способ убеждения (и еще какой!). Автор имеет в своем распоряжении множество трюков, чтобы произвести на нас впечатление, но это не означает, что мы обязаны ему за это. Христианская карикатура о сухопутной рыбе, над которой смеются другие рыбы (у всех рыб смешные человеческие лица с огромными носами), может быть забавна, но нет ничего смешного в реально существующей кистеперой рыбе латимерии.
Литературное произведение можно оценить, только если согласиться с теми негласными правилами, по которым оно устроено. В английской филологии есть введенное Сэмюэлем Кольриджем понятие suspension of disbelief, которое можно примерно перевести как «сдерживание недоверия». Если произведение кажется достаточно интересным, мы готовы сдержать свое недоверие по отношению к вымышленным элементам сюжета, чтобы получить удовольствие от произведения. Мы готовы посмеяться над анекдотом, даже если он абсурден. Англичанин, француз и русский нашли на необитаемом острове бутылку с джинном, исполняющим желания? Нет проблем. Мы не против сопереживать драме, даже если она переворачивает исторические события вверх ногами. Распутин был главным виновником падения царской России? Почему нет? При определенных условиях мы готовы буквально воспринять самый очевидный художественный вымысел, например чудесные истории пророков из Назарета или Мекки.
Складывается впечатление, что современная массовая литература, касающаяся роли религий, только и делает, что ищет основания для подобного «сдерживания недоверия» по отношению к религиозным сюжетам. Поскольку к чудесам всерьез относиться трудно, религиозные сюжеты берутся не буквально и не целиком. Иисус Христос был просто отличным парнем, не правда ли? Предметом такой литературной апологетики становится плохо формализованная «суть религиозности», не зависящая от частностей содержания религиозных мифов. Персонаж Янна Мартела интересуется индуизмом, христианством и исламом, но не делает окончательного выбора. Он просто религиозен. А вот что собой представляет такая «просто религиозность»? Эмоциональное удовольствие от аналогий между собственным опытом и судьбами отдельных религиозных персонажей? В таком случае, где разница между верующим человеком, ассоциирующим себя с историей о праведнике или герое, и девушками-подростками, ассоциирующими себя с переживающими разлуку лирическими героями поп-музыкальных песен? Или речь о вере в рациональный замысел мироздания? Но что это такое? Спросите у тех, кто верит в замысел, что такое «интеллект», и вы поймете, что особенно важных и универсальных откровений от литературного сюжета «о замысле» ожидать не стоит.
Вот что мне вспоминается, когда я думаю о «Жизни Пи», — слова из «Исследования о человеческом познании» Дэвида Юма: «…сочинения, изложенные легким стилем, не слишком отвлекающие от жизни, не требующие для своего понимания ни глубокого прилежания, ни уединения, сочинения, по изучении которых читатель возвращается к людям с запасом благородных чувств и мудрых правил, приложимых ко всем потребностям человеческой жизни. Благодаря таким сочинениям добродетель становится приятной, наука — привлекательной, общество людей — поучительным, а уединение — занимательным»3.
Литературный сюжет о религиозности не так категоричен, как сам религиозный миф, наоборот, он вежлив к верующим и неверующим. В современных сюжетах религия или нечто, близкое ей по форме, изображается не как буквальная истина, а как извинительное приватное увлечение отдельных персонажей, их индивидуальный способ мириться с собственной жизнью, истинность и полезность которого оставляется на усмотрение аудитории. В таких сюжетах религиозные персонажи борются, страдают и преодолевают конфликты, а их просветленное состояние в конце является прямым следствием их сюжетного пути. Форест Гамп из одноименного фильма находит внутренний мир сам и помогает в этом окружающим. Репортер Фил Коннорс в фильме «День сурка» переживает цепочку перерождений снова и снова, пока в конце концов не побеждает собственный эгоизм. Мне кажется, читатель сможет продолжить этот ряд сюжетов сам, вопрос в другом. При чем здесь истина ?
Впрочем, изображать религиозность интимной частью личной жизни могут себе позволить только просвещенные представители цивилизованных стран. В нашем, казалось бы, вполне современном мире есть еще много мест, где религия — инструмент политической власти, и потому она не уйдет молча со сцены, чтобы покорно занять нишу литературного жанра или частных увлечений. В мире невежества и истерии религия — это власть. Как коллективный феномен религия служит тем же целям, что политическая пропаганда, и мы слишком отчетливо видим это даже сегодня. Люди, которые внезапно сменили коммунистическую демагогию на православную, слишком активно разоблачают сами себя. Миф управляет поведенческими реакциями человеческих масс. Это настолько очевидно, что сегодня даже автор блога может создать себе впечатляющий сценический образ и покорить свою аудиторию: трус, подвергавшийся унижениям в детстве, может внушить подросткам пиетет, изобразив из себя многоопытного мужчину. Мы живем в мире, где гуру правят своими сектами, главы духовенства действуют с еще большим размахом, политики используют тех и других, и все это далеко не новость. Но что заставляет людей становиться верующими?
Я могу представить себя верующим человеком. Я могу представить себя христианином, причем в моих представлениях идеальным. Я мог бы выгодно и привлекательно представить и изобразить вариант любой конфессии или деноминации — католической, православной, протестантской. Я не был бы агрессивным неофитом, вообразившим, что мгновенно стал лучше окружающих (в отличие от всяких шумных «новообращенных» членов чиновничества, бомонда и рок-сцены, не говоря уже об откровенных провокаторах, погромщиках и наркоманах). Я не был бы суеверным и формально соблюдающим правила благочестия членом общины. Меня не приводили бы в восторг новодельные иконы или иерусалимские магнитики на холодильник. Я не требовал бы расправы над теми, кто не разделяет мои убеждения или не живет моим образом жизни. С моими знаниями я был избирателен в своих убеждениях, легко избежал бы разнообразных форм «прельщения». Я в совершенстве изучил бы, например, библеистику, патристику или литургику, знал бы каждый нюанс своей традиции, но при этом вряд ли был бы буквоедом и подошел бы к делу апологетики и миссионерской деятельности творчески (в разумных пределах, чтобы не смутить критиков-коллег). Поскольку большинство тропов христианских сюжетов мне в целом знакомы, я легко пользовался бы ими в риторике, направленной как против внешних, так и против внутренних оппонентов (как же без них?). Я не был бы отягощен детскими комплексами и не чувствовал бы себя обязанным «духовным авторитетам» с двусмысленной репутацией (если «авторитет» призывает хвататься за оружие или неловко позорится в ток-шоу, лучше посылать ему благодарности на расстоянии). Я мог бы немного покритиковать стяжательство и вмешательство в политику (с беспроигрышных позиций чистоты веры, но без лишнего оппозиционного энтузиазма). Я мог бы представить любому потенциальному члену моей паствы христианскую традицию как красивую, привлекательную и открытую мечту о весьма понятных вещах, вроде спасения (как объединения с нетварными энергиями апофатического антиномическим образом тринитарного бога, что может быть проще?). Я был бы чертовски харизматичным и убедительным в этой роли (здесь, пожалуй, я уже себе льщу).
Однако проблема здесь вот в чем: все это мне неинтересно. Пусть это будет своего рода кенозис: «Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы…». Быть идеальным христианином — все равно, что быть идеальным игроком в настольные игры . Это не преувеличение. Я не могу придумать сравнение, более точно отражающее мои мысли. Я подробно познакомился с христианством и другими религиозными учениями только в университете, уже после текстов Платона и Аристотеля. Христианская патристика слишком очевидным видом вторична той платонической логике «идеального» и аристотелевской логике «первопричинности», которая сама по себе изначально контринтуитивна, спекулятивна и противостоит всему тому, что можно назвать интеллектуальной честностью и здравым смыслом.
Какое-либо представление о религии сложилось у меня достаточно поздно. До университета мои представления о религии были довольно поверхностными, я думал, что Троица — это что-то вроде семьи из трех медведей. В детстве из всех моих друзей и близких у меня была лишь одна престарелая родственница, которая увлекалась религией. Но теперь я понимаю, что ее верования были обычной «сборной солянкой», получившей широкое распространение в поздней советской и постсоветской России: какое-то «фиолетовое пламя», «звенящие кедры» и еще что-то, не менее невообразимое. Те из моих сверстников, кто уделял слишком много времени «духовным поискам», увлекались дзен-буддизмом, реконструкцией славянских верований и сочинениями Кастанеды, казались мне инфантильными бездельниками. По правде говоря, большинство людей, чрезмерно увлеченных религиозными, эзотерическими и метафизическими проблемами, до сих производят на меня именно такое впечатление.
Мне не интересно содержание какой-либо отдельной религии. Мне не интересны соответствующие богословские споры. Религия в сущности скучная и предсказуемая вещь. Человеческому уму могут быть доступны несравненно более интересные предметы. Интерес представляет то, что открывает само существование религий — об устройстве культуры и мозга, о природе воображения и о способах убеждения. Есть еще более интересные вещи, например вопросы научного метода и логики. Знание и опыт меняют вкусы и интересы. Человеческий рассудок способен на столь удивительные достижения, что в сравнении с ними метафизика есть буквальное ничто. Если сравнить философию с литературой, люди, получающие удовольствие от чтения работ Джозефа Хеллера или Роберта Пенна Уоррена, Лоренса Дарелла или Гертруды Стайн, чаще всего не особенно интересуются фантастикой или детективами.
А вот теперь сложный вопрос. Как следует назвать подобное отношение к «вопросам веры»? Странно, что самые простые вопросы порождают неожиданно большие трудности. Как лучше назвать человека, который не находит ровным счетом никакого смысла во всем том, что мы обычно называем религиозностью ? Чем, к примеру, атеисты отличаются от агностиков, и важна ли эта разница в конечном счете ? Если мы связываем свои самые принципиальные убеждения с атеизмом , не предполагаем ли мы тем самым значимость теологических вопросов? Если слово «атеизм» не подходит, что следует использовать вместо него? Следует ли вообще использовать какие-либо специальные слова, если наше отношение к известному кругу «вопросов веры» — не центр наших убеждений, а лишь их периферия? Частность, о которой приходится вспоминать раз в год?
Не подумайте, что я слишком легкомысленно отношусь к религиям. Религиозные проповеди можно снисходительно игнорировать ровно до тех пор, пока в них не звучат призывы к погромам или террору. Адольф Гитлер использовал религиозную риторику, обращаясь к своему народу, и поддерживал отношения с христианскими церквами, включая Ватикан. Московский патриархат Русской православной церкви в ее современном виде был создан Иосифом Сталиным. Современный патриарх Кирилл показывает себя верным политическим сторонником Владимира Путина. Антиклерикализм затрагивает политические и правовые вопросы. Почему современная цивилизация готова назвать нацизм нацизмом и большевизм большевизмом, но скромно замолкает, когда речь заходит об испанской или доминиканской инквизиции, о педофилии католического духовенства или об исламском терроризме?
Историческое существование религий — хроника жестокости и борьбы за власть. Не следует забывать об этом, когда кто-то начинает отвлеченно говорить о вере. Другой момент, который редко затрагивается в дискуссии о религии, — внутреннее устройство религии. У религий есть буквальное содержание, например история о Сиддхартхе Гаутаме, но есть принципы, которые определяют такое содержание, как повторяющиеся принципы голливудского кино, которые можно отыскать в самых разных, казалось бы, кинокартинах. В этом сравнении нет ничего уничижительного, ведь архаичная легенда, народная сказка или религиозный миф устроены так же схематично, как и блокбастер широкого проката. Что есть современная массовая культура, включая истории супергероев, отважных полицейских и хоббитов, если не мифы и легенды нашего времени?
Если я спрашиваю, в чем заключается важность и значимость содержания религиозных представлений, то это отнюдь не случайный и не праздный вопрос. Дело здесь вот в чем. Многие люди привыкли считать, что существуют такие вопросы, которые важны для каждого. Вопросы причины, цели, начала, смысла человеческого существования и подобные им. Сами эти вопросы будто бы вечны и общезначимы, хотя они редко формулируются в явном виде в каком-либо учении. И каждая религия как будто дает способ ответа на такие вопросы. Сами того не понимая, верующие люди видят своего рода ответ на эти незаданные вопросы и в атеизме, в отсутствии религиозной веры. Атеизм как бы говорит: у человеческой жизни нет ни цели, ни причины, ни смысла. И это кажется отказом от всяких «высших целей», расточительным, бесперспективным и неблагодарным жестом. Это все равно как выбросить ценный подарок.
Неудивительно, что изображенный таким образом атеизм представляется верующим людям разновидностью нигилистических религиозных настроений, исключающей спасение, достижение нирваны или какое-либо иное особое благо, своеобразным «духовным тупиком», заблуждением или формой иррационального протеста. Словосочетание «жизнь без бога» приобретает отрицательную окраску. Из этого ловко вытекает образ атеиста как «соломенного чучела», своеобразной живой полемической логической уловки .
Однако подобный сюжет «о соломенном безбожнике» не имеет ничего общего с теми причинами, по которым реальным людям не интересны религии.
Мысль, которую я хотел бы высказать и с которой следовало бы начать разговор о религиозности, довольно проста, но чаще всего ускользает от рассмотрения религиозных полемистов. Заключается она в том, что, принимая вопросы о причинах всего происходящего в мире, о цели или смысле человеческой жизни, о том, что есть благо и что есть истина, мы неявным образом принимаем определенные метафизические утверждения, которые сами по себе заслуживают отдельного и пристального критического рассмотрения. А способ употребления самих этих слов вроде «причины» отличается от принятого в обыденности или естественно-научного способов употребления. Но именно с подобных вопросов, изначально заданных некорректно и не имеющих эмпирического смысла, и начинаются рассуждения религиозных апологетов и миссионеров. Если разобраться, оказывается, что всякая вера начинается с великой бессмыслицы, спрятанной от пристального взгляда за эмоционально нагруженной риторикой.
Нельзя дать сколько-нибудь осмысленный ответ на бессмысленный вопрос. Но проблема истории, происхождения и внутренней логики подобных вопросов выходит за рамки богословия и религиозных мифов.
Неверующие люди обычно начинают разговор о религиях с вопросов научного знания, но я совершенно не согласен с подобной стратегией. Естественно-научные данные определяют наше представление об устройстве мозга, видообразовании и астрофизических процессах, но осмысленность определенных утверждений — вопрос логического анализа. Главная проблема соотношения религии и науки не является естественно-научной, это проблема научного метода и соотношения проверяемых и непроверяемых утверждений. Ричард Докинз в своем знаменитом сочинении «Бог как иллюзия» настаивает на том, что существование бога — это теория, от которой можно отказаться на основании естественно-научных данных. Но как мне представляется, это совершенно неверная стратегия анализа.
Целый ряд утверждений, лежащих в основании религиозных убеждений, являются метафизическими. Проблема метафизики, как мы называем жанр непроверяемых суждений в честь самого известного произведения Аристотеля, несравненно шире, и дело не только в разнообразии содержания. Подобные утверждения невозможно опровергнуть, но именно это позволяет говорить о том, что они лишены смысла, чисто лингвистически. Это не вопрос фактов и не вопрос веры. Это вопрос логического качества предложений. Соотношение религии и науки — вопрос философии.
Наиболее важные логические основания религии оформились в Античности, а постановка проблемы отделения достоверного естественно-научного знания от произвольных убеждений принадлежит эмпиризму Нового времени. Когда я говорю о философских основаниях современного научного метода, то имею в виду аналитическую философию, которая была создана ведущими учеными и математиками XIX–XX веков, связана с достижениями естествознания, но сосредоточена на конкретной и эксклюзивной задаче, никак не пересекающейся с задачами естественных наук, но имеющей практический смысл — на логическом анализе конкретных утверждений. Вопросами метода естественных наук и математики на протяжении конца XIX и всего XX века были всерьез заняты такие известнейшие ученые и математики, как Мах, Гедель, Тарский, Карнап, Уайтхед, Фейнман, Оппенгеймер и Гейзенберг. Вопросы дефиниций или интерпретаций, такие как вопрос о том, какова природа математической истины, что классифицировать как интеллект, где проходит граница между жизнью и неживой материей или как понимать коллапс волновой функции, имеют чисто методологическую природу. Есть проблема чистоты эксперимента и принцип двойного слепого опыта. Есть огромная проблема достоверности результатов в медицине. Все это серьезные и конкретные проблемы, хотя для русскоязычного читателя зачастую кажется парадоксальным совершенно очевидное и банальное для Рассела или Гильберта утверждение о том, что между математикой и аналитической философией нет четкой границы. Отечественные мифы о науке и культуре также вывернуты наизнанку, как мифы о политике и истории.
В наиболее общем смысле философия — это слово, используемое для обозначения всего жанра рассуждений и их принципов, а рассуждения могут иметь совершенно разное логическое качество. Принципы логики лежат в основании естественно-научных теорий и математических теорем, в основании юриспруденции и анализа пропозиций, они определяют наш способ проверки гипотез и доказательства теорем. Но те же рассуждения (зачастую, содержащие намеренные ошибки) также лежат и в основании самых грубых спекуляций, городских легенд и просто мошенничества. В сущности, к философии можно отнести и формальную логику, и математическую логику, и теоретические обобщения естественных наук, и даже математику (философия и математика вообще в отдельных моментах неразличимы), но вместо этого под философией слишком часто понимается бессмысленная демагогия и полная профанация, вроде русской религиозной философии или постмодернизма.
Но самой главной для нашего разговора является проблема демаркации. Я хочу рассказать историю догматической философии, противопоставить ее принципам научного исследования и тем самым показать, что религиозные утверждения уже на уровне лингвистики и логики не могут быть истиной или ложью. В таком случае говорить о «вероятности существования бога» просто не приходится. Что лежит по ту стороны истины и лжи, также лежит и по ту сторону вероятного и невероятного. Если взять и подвергнуть анализу античный фундамент современных рассуждений о вере, обнаружится, что подобная дискуссия лишена всякого достаточного основания.
Конечно, нельзя забывать, что проблема религии выходит за рамки камерной полемики об истине, равно как и проблема истории национал-социализма больше, чем политические споры в пивных Мюнхена. За метафизикой скрывается великая трагедия, которая касается практически каждого. История метафизических рассуждений — это история спекулятивных социальных учений, оправдывавших катастрофические политические решения. Это история категоричных оценочных суждений, ломавших реальные судьбы. Это история уничтожения инакомыслящих, история политического и клерикального насилия. Это история превращения меньшинств вроде евреев в «крайних мира сего». Это также история наиболее постыдных суеверий, откровенного мошенничества и лженауки.
Остается только добавить, что, говоря о философии, я буду рассматривать только прямое противопоставление рационального догматизма и эмпиризма. Это философия в буквальном смысле, жанр рассуждений, история которого позволит понять проблему безосновательных утверждений и недостоверных выводов, полученных из ложных предпосылок. Хотелось бы отделить подобное академическое понимание слова «философия» от его обыденного употребления, в котором иногда философией называют любые убеждения, любые мысли, любые принципы, например «философию компании Apple» или «философию рок-музыки».
Главная философская особенность религии заключается в том, что религиозные убеждения произвольно постулируются и не подлежат проверке. Такие убеждения называют метафизическими, по названию сочинения Аристотеля «Метафизика». Чтобы сделать вывод о ценности метафизических утверждений, достаточно лишь рассмотреть историческое происхождение подобных убеждений и историю критики метафизики учеными и философами Нового времени. Станет очевидным, что утверждения о высшем предназначении, благе или душе логически отличаются от утверждений о фактах и предметах, а оценочные суждения религиозных традиций совершенно произвольны и зачастую банальны. Метафизические доводы — это не сверхъестественное знание, а игра воображения и беспредметная спекуляция.
В сущности, жизнь без метафизических убеждений и произвольно взятых циклопических идеалов проще и честнее. Действительность не сообразна нашему разуму, скорее разум, точнее мозг со всем его содержимым — это частный случай действительности. Не биологическая эволюция рациональна, а человеческая рациональность построена на переборе комбинаций. За всю нашу историю спекулятивные убеждения не принесли нам никакой пользы, в то время как достоверное научное знание драматично изменило судьбу нашего вида к лучшему. Мы устанавливаем правила нашего поведения лишь для того, чтобы приспособиться к жизни, а не приспосабливаем жизнь к сверхъестественным правилам. Одной из самых важных мыслей кажется мне то, что все общие фразы, все категоричные оценки, все громкие максимы и все бескомпромиссные идеалы существуют в человеческих языках и воображении постольку и лишь постольку, поскольку существуют конкретные факты, ситуации и судьбы . Все общие фразы мира существуют лишь постольку, поскольку существуют конкретные судьбы, а не наоборот.
Люди, которые стремятся убедить нас в чем-либо, чаще всего лгут нам и действуют исключительно в собственных интересах. Если человек желает добиться от меня согласия с его оценочными убеждениями, причем не желает ждать, пока я приму решение (если я заключаю договор, мне нужно время, чтобы оценить порождаемые им права и обязанности), и прибегает к демагогическим уловкам, его целью является манипуляция моими эмоциями и поведением. Такому контрагенту попросту нельзя доверять. Помните: откровенный и честный человек не станет прибегать к настойчивому убеждению, он лишь сообщит вам информацию и позволит вам самим сделать необходимые вам выводы, и только лжец и негодяй вывернется наизнанку «ради правды». Как говорил Фридрих Ницше, истина — не «такая простодушная и нерасторопная особа, которая нуждается в защитниках».
Читателю может показаться, что в первой половине книги я слишком много говорю об истории философии и слишком подробно цитирую мыслителей, которые вроде бы и не были религиозными деятелями. Но я уверяю вас, в этом есть смысл! Представьте себе, что есть несколько стратегий анализа религии и религиозных идей: можно говорить о них с позиции естественных наук, с позиции культурологии и антропологии, с позиции нейробиологии или сравнительного религиоведения. И авторов, которые пишут о религиях в подобном критическом ключе, немало! Но мне кажется более важным и интересным не рассказ об истории Церкви и не исследование Библии, например, а скрытые основания самого разговора о религиозности, те философские предрассудки, которые определяют все то, что представляют собой религиозные идеи. Это очень интересная проблема, но замысловатую линию рассуждений античной метафизики, которая предопределила судьбу религии и границы дискуссии о сверхъестественном, нет смысла пересказывать. Нет каких-то дополнительных аргументов, которые можно привести в пользу платонизма или патристики. Основание этих спекуляций и догм — лишь в них самих. Читатель сам сможет решить, верно ли то, что рассуждения Платона или Аристотеля причудливы, но не вызывают никакой симпатии. Причем они предопределили не только богословие христианских святых отцов или каббалу иудейских мудрецов, но и величайшие (и наиболее разрушительные) идеологии: но на каких глиняных ногах построен этот колосс? Кажется совершенно необходимым привести здесь как можно полнее примеры человеческой метафизической мысли, ведь в итоге разговор о религии, о философии, о науке и о мифе — это разговор о природе воображения. Вот почему очень важно так подробно изложить античные труды: содержащаяся в них аргументация формально последовательна, но основывается на произволе, который вернее всего продемонстрировать с помощью цитат.
Вот главное, что необходимо повторить: наиболее полное понимание самой природы религии порождает вовсе не эмоциональное отрицание. Эмоциональные реакции свойственны аудитории рассказа, но не исследователю-филологу. То же справедливо и в отношении религии и философии. Если понять логическое устройство и историческое происхождение религиозных идей, буквально воспринимать их невозможно. А поможет понять, почему, подробный и хорошо иллюстрированный рассказ об истории величайших и наиболее одиозных заблуждений.
Для симметрии классикам я хочу подробно процитировать таких авторов, как Бэкон и Гольбах. Это позволит показать историю становления естествознания, сопутствующей естествознанию эмпирической философии и атеизма Нового времени — а также того, что наследует атеизму, но становится значительно большим, чем просто преодоление религии. Я заранее прошу прощения у читателя, если вступление к нашей дискуссии покажется сложным. Я совершенно уверен в том, что это необходимо! Только рассказав подробно об истории становления религиозных и естественно-научных взглядов, я смогу убедительно сравнить их, дать им оценку и вынести суждения в ту или иную пользу.
И наконец после этого можно будет рассмотреть конкретные точки столкновения религиозных и метафизических идей с принципами аналитической философии и естественных наук. То есть сперва подробно изложить, подробным цитированием объяснить исторический контекст конфликта религии и науки, а затем уже перейти к экстраполяции этого исторического контекста на современность. Так данная работа и будет построена: в первой половине подробный контекст проблемы, а во второй — выводы, аргументация, и самое главное: авторская позиция.
А главная мысль всего моего рассказа, в обоснование которой будет сказано так много, сама по себе удивительно проста: религия кажется мне философской пошлостью, чем-то до смешного обычным и тривиальным .
I. Метафизика и религия. Происхождение великих мифов
— Что есть истина?
Понтий Пилат Иисусу Христу
(Ин 18:38)
Религия — это собирательное и не особенно строгое понятие. Для европейцев, и в частности русских, характерно отождествлять понятие религии с иудаизмом, христианством и исламом, иногда прибавляя к ним античную и европейскую мифологии. Кроме этого, принято говорить об индуизме, буддизме и синтоизме. Но что делать с бесчисленным множеством других мифологий, включая мезоамериканские или полинезийские? Что делать с шаманизмом, который исследовал Мирча Элиаде, или современными культами «Новой эры»? Что вообще характерно для религии? Европеец сказал бы, что религии связаны с фигурой бога, но даже если мы сравним иудейского Яхве, христианского тринитарного антиномического бога и мусульманского Аллаха, мы обнаружим, что это три совершенно разных персонажа. Да-да, именно так: я не вижу никакой связи между Яхве, которого врукопашную поборол в своем шатре Иаков, и той апофатической абстракцией блага, которую постигали через «нетварные энергии» восточные мистики на горе Афон. Но даже самая обобщенная фигура божества не является отличительной особенностью того множества мифов, которые мы называем религиозными, иначе как нам относиться к буддизму или сайентологии? Чтобы сделать ситуацию еще интереснее, добавлю, что не вижу принципиальной разницы между религиозным культом и магией контакта и подобия, как их описывал Джеймс Фрэзер, или даже между религиозными мифами и мифами в широком смысле, включая социально-политические мифы вроде марксизма, или городские легенды, которые разрушают Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж («Разрушители мифов»).
Я не шучу. Если мы принимаем для исследования тропов человеческой мифологии (и в целом культуры) метод структурализма, то рано или поздно начинаем видеть нарративы даже в повторяющихся сценариях повседневного здравого смысла, а различение «глубокого» и «мелкого» или «эзотерического» и «массового» теряет смысл.
Ситуация начинает казаться запутанной, но именно поэтому я предлагаю начать разговор о природе религии вовсе не с религий самих по себе. Представьте себе, что религиозные сюжеты — это изменчивая поверхность, повторяющая жесткую, но не видимую нами структуру. В человеческой культуре и литературе есть нечто более фундаментальное, чем чудеса и пророки. Полагаю, начать разговор следует с той скрытой внутренней логики, которая делает возможными и сами религии, и дискуссию о религиозности как таковую. Я имею в виду метафизику, жанр рассуждений о всем том, что не дано в чувственном опыте, но запросто существует по крайней мере в языке.
Наиболее удобным примером для такого разговора, на мой взгляд, является философия Платона и Аристотеля. Именно платонизм лежит в основе христианской патристики и во многом определяет европейскую религиозную мифологию, включая представление о благе как таковом, об идеалах, о бессмертной душе, о перерождении, о рациональности мира и особенном месте разума в мире, об утопии, социальной инженерии и евгенике. Аристотель в своем труде, название которого стало нарицательным, употребил понятия причинности и цели таким странным и противоестественным для современного ученого, но удобным для искусства демагогии образом, что до сих пор тут и там приходится слышать риторические вопросы «о причинах» или «о цели» всего происходящего в нашей жизни. Вместе эти два наиболее великих и одиозных античных автора определили всю рациоцентрическую европейскую философскую традицию, включающую христианское богословие и схоластику, неоплатонизм, картезианство, немецкий идеализм, гегельянство и марксизм, а также большую часть того, что мы имеем в виду, говоря о религии, включая сайентологию. Большая часть риторики о человечности и божественности, идеалах, высшем благе или высших целях, о низменном и высоком, духовном и материальном, о законах истории и принципах морали, с которой вы когда-либо сталкивались или столкнетесь, развалится как карточный домик, если выдернуть из ее основания замысловатый и совершенно чуждый эмпирическому рассудку античный миф.
1. Идеалы, высшее благо, душа и истина. Великие мифы Платона
Всем известно, кого Иисус Христос называет лжецом и отцом всей лжи, но я полагаю, что настоящий лжец и отец всей лжи европейской культуры — Платон. Ницше называет платонизм «самым худшим, самым томительным и самым опасным из всех заблуждений», настоящим кошмаром, извращающим всякую жизнь, которой он касается. Для того чтобы понять причину этого утверждения, достаточно обратить внимание на странные слова Сократа в диалоге Платона «Федон»: «Те, кто предан философии, заняты, по сути вещей, только одним — умиранием и смертью»4. Эта простая фраза — одна из самых зловещих и одиозных в истории человечества, а ее последствия выходят далеко за рамки философии как жанра риторических бесед улиц и застолий Афин V–IV веков до новой эры.
В своих Диалогах Платон устами умирающего Сократа противопоставляет тело и его потребности, с одной стороны, и душу, разум и познание, с другой стороны. «Как, по-твоему, свойственно философу пристрастие к так называемым удовольствиям, например к питью или к еде? — спрашивает Сократ. — Например, щегольские сандалии, или плащ, или другие наряды, украшающие тело, — ценит он подобные вещи или не ставит ни во что, разумеется, кроме самых необходимых?»5 Любой более или менее знакомый с принципами жанра подобных риторических жестов читатель мгновенно поймет, какой вывод будет сделан на следующем ходу: «именно в том прежде всего обнаруживает себя философ, что освобождает душу от общения с телом в несравненно большей мере, чем любой другой из людей»6, — заключает Сократ. Это рассуждение важно для Платона, поскольку, по его мысли, действительность, данная в органах чувств, недостоверна, непостоянна и беспорядочна. Но в отличие от чувственной действительности, которая раздражает античного публициста своей сложностью, принципы логики или математики постоянны, категории языка упорядочены, а полученные на их основании выводы достоверны. В этом заключается суть теории познания, присущей платонизму. Именно по причине своего крайнего рационализма и в силу своих познавательных предпосылок Платон создает знакомое нам представление о душе, существующей независимо от тела и содержащей человеческие интеллект и память:
«[Смерть — это] Не что иное, как отделение души от тела, верно? А „быть мертвым“ — это значит, что тело, отделенное от души, существует само по себе и что душа, отделенная от тела, — тоже сама по себе? Или, быть может, смерть — это что-нибудь иное?»7
«Когда же в таком случае, — продолжал Сократ, — душа приходит в соприкосновение с истиной? Ведь, принимаясь исследовать что бы то ни было совместно с телом, она всякий раз обманывается — по вине тела. Мне кажется, это бесспорно»8.
Таким образом, платоническое представление о дуализме тела и интеллектуальной души является следствием античного представления о знании и истине, противопоставленных кажущемуся и мнениям. Знание истины означает правоту и победу в полемике. Античные философы не преследовали дели постановки экспериментов или получения фактического знания в современном естественно-научном смысле. Истина, о которой говорит Платон, также является идеей абстрактной истинности каждого конкретного утверждения. Платоническое представление о душе просто следует из метода рассуждений Платона.
Католические богословы и еврейские исследователи иудаизма сходятся во мнении, что платоновское представление о душе не было присуще иудаизму и могло быть привнесено в иудейскую культуру не раньше похода Александра Македонского. В иудейском священном писании такие понятия, как «нефеш», обозначают любое живое существо или присуще любому живому существу, а также дыхание, кровь и жизнь, и в этом смысле оно скорее подобно греческой «пневме». Это дыхание покидает человека после смерти, а мыслительная деятельность на этом прекращается. В иудаизме нет развернутого представления о посмертии, вместо него существует простой термин «могила» и относительно позднее понятие воскресения, то есть буквального оживления, в духе сюжета о Викторе Франкенштейне и его Чудовище9. Платоновского представления о душе в оригинальном иудаизме нет.
«В В[етхом] З[авете] не существует дихотомии [разделения на две части] в теле и душе… Израильтянин смотрел на вещи конкретно, в целом, и видел поэтому человека как личность, а не как нечто составное. Выражение непес [нефеш], хотя и переведенное нашим словом душа, никогда не означало душу в отдельности от тела или от личности…. Выражение [психе] является соответствующим словом для непес в Н[овом] З[авете]. Оно может означать жизненный принцип, саму жизнь или живое существо»10.
«Мнение, что душа продолжает существовать после смерти тела, является скорее делом философской или теологической спекуляции, чем просто веры, и Священное Писание нигде об этом ясно не учит»11.
Иудаизм после эпохи Александра Македонского и тем более средневековый Талмуд, без сомнения, претерпели влияние эллинизма. Заимствования очевидны и самим евреям-иудеям. Мифы и эпистемология Платона сыграли для авраамических религий и вообще всей человеческой религиозности огромную роль. Платоническая метафизика была привнесена в раннее христианство уже Оригеном и Августином. При этом я не хочу сказать, что привычное современному толкованию религиозного мифа и мифологии представление о душе является эксклюзивным для платонизма. Во-первых, пример, который я привел, ограничивается Средиземноморьем, хотя, по мнению некоторых востоковедов вроде Нидэма и Зоммера, архаичным мифологическим представлениям Индии и Китая также не было свойственного платонизму четко выраженного дуализма. Во-вторых, я не берусь перечислить все мифологические истоки представления о душе, включая мифы о путешествиях в сновидениях и анимизм (это потребовало бы сочинения уровня трудов Элиаде и Фрэзера). Эта тема заслуживает отдельного, огромного исследования. Мне кажется благоразумным заключить, что возникновение классического для нас с вами дуалистического представления о теле и душе было неизбежным, с Платоном или без него. Это обычная ошибка нашего рассудка и языка, похожая на антропоцентризм в астробиологии.
Архаичный миф является буквальным и натуралистичным. Магия представляет собой связь предметов, которые соприкоснулись или похожи, а дыхание, как физиологический процесс, или кровь, как субстанция тела, и являются жизнью. Ни о каком продолжении этого процесса после смерти говорить не приходится. Вспомните, что Соломон вполне определенно высказывался о смертности людей. Даже непосредственные предшественники Платона, вроде Анаксагора, разделяли понятие души как витальности, присущей всем живым организмам, и понятие интеллекта, субъективности и памяти, хотя эти понятия сами по себе, наряду со знаменитой проблемой «первоначала», уже фигурируют у них. Платон просто является наиболее значимым автором, выразившим этот миф в его наиболее полной форме. Собственно говоря, история античной греческой философии и есть история становления абстрактного мышления, а употребление общих понятий и есть главное содержание трудов Платона. Важным для нас является лишь одна роковая особенность классической философии, которая оказалась в полной мере выявлена лишь спустя тысячи лет анализом языка: Платон постулировал существование соответствующих общим понятиям эйдосов, существующих в отдельной умопостигаемой реальности, параллельной материальному миру, более ценной, чем материальный мир, и определяющей его.
Вот почему нам следует продолжить разговор о Платоне. Мы остановились на моменте, когда перед нами Сократ, принявший яд и рассуждающий о смерти. Платон приводит доказательства существования отличной от тела и бессмертной души — до рождения и после смерти:
• жизнь противоположна смерти, как сон противоположен бодрствованию;
• чувственное знание равенства самого по себе или прекрасного самого по себе должно быть присуще нам до рождения (мы припоминаем идеи вещей);
• душа является неделимой и неизменной, в противовес изменяемому и смертному телу;
• душа является идеей жизни.
В самом деле? Нетрудно заметить, что Платон в своем диалоге от лица Сократа берет произвольные предпосылки, какими бы необычными они ни были, и получает из них необходимые выводы. Нет ничего само собой разумеющегося или даже убедительного для современного читателя в том согласном убеждении, к которому приходят Сократ и Симмий, будто бы сами общие идеи присущи людям до их рождения и являются, таким образом, примерами припоминания ранее виденного.
Сократ риторически вопрошает, должны ли мы обладать знанием идеи равенства прежде того, как начнем воспринимать предметы. Но что есть эта самая мысль о равенстве сама по себе? Иммануил Кант назвал бы суждение о равенстве или неравенстве предметов аналитическим, то есть высказывающим в предикате только то, что уже мыслилось в предмете: такое суждение не стало бы для него поводом говорить о равенстве самом по себе или мире идей , виденном нами прежде рождения. Для эмпирического рассудка может быть совершенно непонятным, почему мы должны вслед за автором говорить о прекрасном или благе самом по себе? Почему это божественное устроено для власти и руководства, а смертное для рабства и подчинения? В рамках мифа это кажется совершенно справедливым и закономерным (происходящим из постулированных мифом предпосылок), но если взглянуть на миф со стороны, извне, оказывается, что в его устройстве нет ничего непроизвольного! Видите ли, так устроен миф в широком смысле: аудитория мифа не анализирует его структуру, а принимает неявные правила рассказа как данность, по умолчанию.
Мы можем соглашаться или не соглашаться с Сократом, переживать, спорить, задумываться о перерождении души, о двойственности человеческой натуры или о судьбе Атлантиды, но только если перед этим покорно примем правила словоупотребления, оппозиции понятий души и тела, зримого и безвидного или материального и идеального. Если же мы внезапно для себя обнаружим, что роли в мифе заранее определены, что Сократу положено быть центральным персонажем, протагонистом и инструментом авторского высказывания, а вся последовательность вопросов есть лишь режиссура, содержание мифа уже не будет иметь для нас прежнего значения. Ребенок однажды открывает для себя, что куклы в спектакле движутся и разговаривают не сами по себе, проницательный читатель найдет литературную преемственность в творчестве Достоевского Гофману, а любитель фильмов Квентина Тарантино рано или поздно догадается о законах любимого жанра.
В каждом из своих Диалогов Платон рассказывает миф, и христианская мифология, созданная на Вселенских соборах, имеет общую с платоновскими мифами внутреннюю логику. Бог есть благо само по себе, и это лишь самое очевидное, но далеко не единственное заимствование! Представьте себе, что вся христианская патристика невозможна вне платонизма, и даже любое наше современное рассуждение о религии как таковой, в широком смысле — не обходится без Платона. Вот хороший пример: в качестве христианского патриотического определения души митрополит Иларион (Алфеев) приводит слова Афанасия Великого: «Душа есть сущность умная, бестелесная, бесстрастная, бессмертная» и Григория Нисского: «Душа есть сущность рожденная, сущность живая, умная, сообщающая собой органическому и чувственному телу жизненную силу»! Немногие прихожане современной РПЦ отдают себе отчет, сколько тропов платоновской философии и неоплатонизма лежит в самом основании их религиозной традиции, как о том подробно писал, к примеру, Владимир Лосский в своем «Очерке мистического богословия Восточной Церкви»! Разумеется, творчество Платона не является единственным источником всех религиозных мифологий, но именно язык и философию Платона мы используем, когда говорим о религиозных идеях.
В «Федоне» Платон защищает целый ряд интересных нам в контексте проблемы религиозности утверждений: и утверждение о бессмертии и самостоятельном характере души, и утверждение о существовании общих понятий или идей как таковых, и ценность этой истины об идеях. С точки зрения аналитического философа само утверждение об эйдосах является злоупотреблением языком, порождающим непроверяемые утверждения. Из одного того факта, что мы в определенных условиях употребляем слово «красота», не следует, что этому слову соответствует нечто, отличное от красивых предметов. Употреблять слово «красота» — не означает владеть каким-то особым знанием. Но для Платона в рассуждении о красоте самой по себе заключена особая ценность, и вот из ценности подобных идей, в свою очередь, проистекает мысль о ценности души, а ценность тела в противовес ей отрицается — потому что только мешает познанию идей.
«Да, примерно такое убеждение и должно составиться из всего этого у подлинных философов, и вот что приблизительно могли бы они сказать друг другу: „Словно какая-то тропа приводит нас к мысли, что, пока мы обладаем телом и душа наша неотделима от этого зла, нам не овладеть полностью предметом наших желаний. Предмет же этот, как мы утверждаем, — истина. В самом деле, тело не только доставляет нам тысячи хлопот — ведь ему необходимо пропитание! — но вдобавок подвержено недугам, любой из которых мешает нам улавливать бытие. Тело наполняет нас желаниями, страстями, страхами и такой массою всевозможных вздорных призраков, что, верьте слову, из-за него нам и в самом деле совсем невозможно о чем бы то ни было поразмыслить! А кто виновник войн, мятежей и битв, как не тело и его страсти? Ведь все войны происходят ради стяжания богатств, а стяжать их нас заставляет тело, которому мы по-рабски служим. Вот по всем этим причинам — по вине тела — у нас и нет досуга для философии“».
Вот в чем вина тела перед душой, по мнению Платона: чувства не позволяют эллину предаваться отвлеченным размышлениям. В платонизме жизнь вторична смерти потому, что чувственный опыт и действительность вторичны умозрительным идеалам. Предметы несовершенны, а несовершенство это заключается в несоответствии нашим отвлеченным представлениям. И вот один из самых важных вопросов, который следует задать относительно всего множества мифов, включая мифы религиозные, социально-политические и культурные: что, собственно, такого в наших идеалах? Каковы их происхождение и природа, действительно ли они так хороши, или же сама работа нашего мозга по созданию идеалов есть лишь беспомощная реакция рассудка на жизненный опыт?
Платон не только излагает в «Федоне» миф о идеях и душе, но и дополняет этот миф не менее интересными и важными для нас сюжетами — о перерождении душ и восхождении души к роду богов. И если первый сюжет был отвергнут отцами христианской церкви, то второй и стал ни больше ни меньше, а целью христианства.
Итак, душа и тело согласно Платону занимают противоположные позиции в дихотомии безвидного и идеального, с одной стороны, и зримого и преходящего — с другой. По этой причине душа является несоставной, не распадается на части и бессмертна, поскольку смерть есть распад на составляющие. Но какая судьба ждет душу после того, как тело умерло и распалось на части? Слово Сократу:
«Допустим, что душа разлучается с телом чистою и не влачит за собою ничего телесного, ибо в течение всей жизни умышленно избегала любой связи с телом, остерегалась его и сосредоточивалась в самой себе, постоянно в этом упражняясь, иными словами, посвящала себя истинной философии и, по сути дела, готовилась умереть легко и спокойно. Или же это нельзя назвать подготовкою к смерти?… Но, думаю, если душа разлучается с телом оскверненная и замаранная, ибо всегда была в связи с телом, угождала ему и любила его, зачарованная телом, его страстями и наслаждениями настолько, что уже ничего не считала истинным, кроме телесного, — того, что можно осязать, увидеть, выпить, съесть или использовать для любовной утехи, а все смутное для глаза и незримое, но постигаемое разумом и философским рассуждением приучилась ненавидеть, бояться и избегать, — как, по-твоему, такая душа расстанется с телом чистою и обособленною в себе самой?.. Но ведь телесное, друг, надо представлять себе плотным, тяжелым, землеобразным, видимым. Ясно, что душа, смешанная с телесным, тяжелеет, и эта тяжесть снова тянет ее в видимый мир. В страхе перед безвидным, перед тем, что называют Аидом, она бродит среди надгробий и могил — там иной раз и замечают похожие на тени призраки душ. Это призраки как раз таких душ, которые расстались с телом нечистыми; они причастны зримому и потому открываются глазу»12.
Души дурных людей не достигают мира идей, к которому свойственно стремиться душе, поскольку они «привязаны в земле» дурной жизнью. Дурная жизнь, как мы видим, есть жизнь, посвященная не интеллектуальным упражнениям, а чувственным потребностям. Такие души обречены существовать без соприкосновения со сферой идеального. Каждый читатель, знакомый с иудаизмом и исламом, должен немедленно узнать картину авраамического посмертия: это уже не культ предков, не страна мертвых, не классический Аид или иудейский Шеол. Но дальше будут удивлены уже индуисты и буддисты, так как Сократ тотчас рассказывает, что души дурных людей в конце концов воплощаются в животных, в соответствии с теми предпочтениями, которые они приобрели в прошлой жизни. Жестокие превратятся в волков или ястребов, а пьяница станет ослом.
Кому-то повезет больше, если он вновь станет человеком, но самые просвещенные, достигшие очищения и просветления, — философы станут после смерти богами. Перед нами законченный и полный религиозный сюжет о просветлении или восхождении.
«Вот то освобождение, которому не считает нужным противиться душа истинного философа, и потому она бежит от радостей, желаний, печалей и страхов, насколько это в ее силах, понимая, что, если кто сильно обрадован, или опечален, или испуган, или охвачен сильным желанием, он терпит не только обычное зло, какого и мог бы ожидать, — например заболевает или проматывается, потакая своим страстям, — но и самое великое, самое крайнее из всех зол и даже не отдает себе в этом отчета»13.
«Такая душа уходит в подобное ей самой безвидное место, божественное, бессмертное, разумное, и, достигши его, обретает блаженство, отныне избавленная от блужданий, безрассудства, страхов, диких вожделений и всех прочих человеческих зол, и — как говорят о посвященных в таинства — впредь навеки поселяется среди богов»14.
Представление о душе развивается в диалоге «Федр». Сперва Платон повторяет свое убеждение о душе как источнике жизненного движения и о том, что душа бессмертна:
«Всякая душа бессмертна. Ведь вечнодвижущееся бессмертно. А у того, что сообщает движение другому и приводится в движение другим, это движение прерывается, а значит, прерывается и жизнь. Только то, что движет само себя, раз оно не убывает, никогда не перестает и двигаться и служить источником и началом движения для всего остального, что движется. Начало же не имеет возникновения. Из начала необходимо возникает все возникающее, а само оно ни из чего не возникает. Если бы начало возникло из чего-либо, оно уже не было бы началом. Так как оно не имеет возникновения, то, конечно, оно и неуничтожимо. Если бы погибло начало, оно никогда не могло бы возникнуть из чего-либо, да и другое из него, так как все должно возникать из начала. Значит, начало движения — это то, что движет само себя. Оно не может ни погибнуть, ни возникнуть, иначе бы все небо и вся Земля, обрушившись, остановились и уже неоткуда было бы взяться тому, что, придав им движение, привело бы к их новому возникновению.
Раз выяснилось, что бессмертно все движимое самим собою, всякий без колебания скажет то же самое о сущности и понятии души. Ведь каждое тело, движимое извне, — неодушевлено, а движимое изнутри, из самого себя, — одушевлено, потому что такова природа души. Если это так и то, что движет само себя, есть не что иное, как душа, из этого необходимо следует, что душа непорождаема и бессмертна»15.
Проблема источника жизненного движения вообще важна. В частности, она сыграет свою немалую роль в творчестве Аристотеля. Кроме того, здесь открывается преемственность между «витальным» жизненным началом Анаксагора и платонической душой. Ведь как раз одно из платоновских доказательств качеств души — это как раз то, что она «наделяет» живые существа движением. Платон просто развивает представление об устройстве души в сравнении с простым жизненным началом или дыханием.
Так, в «Федре» автор изобразил душу в виде колесницы разума, запряженной двумя конями, изображающими высокие и низменные начала характера, и управляемой умом. Это совершенно очевидная аллегория внутренних конфликтов. Душа принадлежит божественному бытию, но воплощается в материальном теле и поэтому испытывает трудности с познанием того, что является лишь умопостигаемым, то есть «…область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души — уму; на нее-то и направлен истинный род знания»16.
Это «подлинное бытие», которое располагается за небом. Мысль души, которая находится в подлинном бытии, видит справедливость саму по себе, истину саму по себе и от этого получает удовольствие. Но тому, чтобы человеческой душе достигнуть истины и подлинного бытия, мешает противоречивый характер желаний. Качество материального воплощения, в соответствии с платоническим мифом, зависит от количества истины, ставшей доступной душе в нематериальном мире.
«Душа, видевшая всего больше, попадает в плод будущего поклонника мудрости и красоты или человека, преданного Музам и любви; вторая за ней — в плод царя, соблюдающего законы, в человека воинственного или способного управлять; третья — в плод государственного деятеля, хозяина, добытчика; четвертая — в плод человека, усердно занимающегося упражнением или врачеванием тела; пятая по порядку будет вести жизнь прорицателя или человека, причастного к таинствам; шестой пристанет подвизаться в поэзии или другой какой-либо области подражания; седьмой — быть ремесленником или земледельцем; восьмая будет софистом или демагогом; девятая — тираном. Во всех этих призваниях тот, кто проживет, соблюдая справедливость, получит лучшую долю, а кто ее нарушит — худшую»17.
Платон связывает влюбленность с влечением к красоте, а влечение к красоте с идеей прекрасного самого по себе. Прекрасное — это идея, но человек получает представление о прекрасном при помощи чувств. Конечно, Платон рассуждает в «Федоне» и «Федре» о сверхъестественном мире, как о более прекрасном, чем видимый мир, но его описания «земли на берегу воздуха» или «колесниц богов, которые хорошо управляемы» содержат обыденные примеры и аналогии. Это еще один факт, который следует отметить: типичное рассуждение об идеалах начинается с конкретных вещественных примеров. В «Федре» конкретным поводом для рассуждения о прекрасном является внешний вид мальчиков-подростков (говоря о нравах античности, нужно иметь в виду, что расхожее понятие «платонические чувства» вовсе не означает целибат). Это порождает проблему конфликта желаний: с одной стороны, главный конфликт платонизма — это конфликт идеального и материального, но, с другой стороны, влечение к прекрасному в данном случае имеет телесный характер. Поэтому высокая и низкая стороны влюбленности и изображаются как кони в упряжке: «Из коней, говорим мы, один хорош, а другой нет. А чем хорош один и плох другой, мы не говорили, и об этом надо сказать сейчас. Так вот, один из них прекрасных статей, стройный на вид, шея у него высокая, храп с горбинкой, масть белая, он черноокий, любит почет, но при этом рассудителен и совестлив; он друг истинных мнений, его не надо погонять бичом, можно направлять его одним лишь приказанием и словом. А другой — горбатый, тучный, дурно сложен, шея у него мощная, да короткая, он курносый, черной масти, а глаза светлые, полнокровный, друг наглости и похвальбы, от косм вокруг»18.
Конфликт этих двух воображаемых животных — узнаваемая, наглядная и запоминающаяся аллегория. Каждый наверняка знаком с тропом религиозного мифа о восседающих на плечах ангеле и демоне. Для Платона эта аллегория — способ изобразить любовные отношения как нечто подобающее его идеализму. Но в более широком смысле перед нами миф о морали и о человеческой природе.
Однако в этом же диалоге Сократ спрашивает Федра: «Так вот, когда оратор, не знающий, что такое добро, а что — зло, выступит перед такими же несведущими гражданами с целью их убедить, причем будет расхваливать не тень осла, выдавая его за коня, но зло, выдавая его за добро, и, учтя мнения толпы, убедит ее сделать что-нибудь плохое вместо хорошего, какие, по-твоему, плоды принесет впоследствии посев его красноречия?»19 Платон полагает себя оратором, знающим, что такое добро и что такое зло. Философия, по его мнению, тем и отличается от простой риторики, что основывается на знании. Единственный важный вопрос относительно всей платонической философии заключается в том, обоснованы ли претензии Платона на обладание знанием?
Когда Парменид в одноименном диалоге обращается к Сократу, они приходят к выводу, что «если кто… откажется допустить, что существуют идеи вещей, и не станет определять идеи каждой вещи в отдельности, то, не допуская постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих вещей, он не найдет, куда направить свою мысль, и тем самым уничтожит всякую возможность рассуждения» (Платон. Парменид 428). Диалог «Парменид» является одним из самых сложных среди работ Платона (многие рассуждения запутанны, а выводы сомнительны), поскольку касается соотношения идей с другими идеями и идеях таких соотношений (устами Зенона приводится апория, порождающая бесконечную редукцию отношений идей к новым идеям: если у двух идей есть что-то общее, это тоже является идеей). Главная тема — «о едином и многом», то есть о идее, объединяющей все существующее, по отношению к которой не должно быть никаких других идей, включая подобие и существование. Проблема «единого» у Платона интересна потому, что тесно связана с поиском первоначальной стихии в натурфилософии, первопричиной у Аристотеля и собственно представлениями о боге в христианском богословии. В рассматриваемом диалоге Парменид приходит к заключению, что поскольку единое не может быть множественным и таким образом не должно иметь пределов, начала и конца, то оно «не причастно времени и не существует ни в каком времени», а что самое интересное, не принадлежит идее бытия. О нем вообще трудно сказать что-то определенное (это очень противоречивая абстракция), хотя нельзя заключить, что оно и не существует: «если единое не существует, то ничего не существует». Это совершенно очевидным образом за столетия до Вселенских соборов предопределяет форму рассуждений христианских отцов церкви о боге, включая тринитарную антиномию и апофатическое богословие восточнохристианской мистической традиции (мистические богословы описывали бога как тьму и небытие, «не-сущее»).
Кажущиеся лишенными всякого смысла платоновские поиски определения «единого» могут стать значительно понятнее и ближе нам, если задуматься, почему обобщение доставляет нам удовольствие. Предположим, способность нашего мозга обобщать опыт и вырабатывать типичные поведенческие привычки для множества случаев полезна. Это позволяет вырабатывать полезные благоприобретенные навыки. Общие правила для множества ситуаций — это большая экономия сил и потенциально эффективный способ приспособления. Выгоднее запомнить простой и эффективный способ расколоть орех, изготовить орудие, распознать чужие намерения. Язык, мифология и наука с этой точки зрения — способы адаптации. Платонические абстракции — общие для множества единичных вещей качества. Среди прочего абстракция, как мне кажется, обобщает «эмоциональный вес» каждого отдельного предмета в нашей памяти. Если отдельные ситуации, в которых мы оказывались или о которых слышали, производили на наше воображение какое-то действие, то собирательные понятия, обозначающие такие ситуации, должны иметь суммарный эмоциональный вес. Поэтому рассуждения о судьбе вообще или человеческой природе вообще завораживают воображение. Рассуждение о боге или рассуждение о Восхождении увлекают многих по этой же простой причине. Я полагаю, что и для Платона имели такое же огромное значение рассуждения о красоте самой по себе, благе самом по себе или «идее единого». Ведь это идея идей! Марксистов завораживает мысль о том, что им доступно знание, определяющее ход истории, человеческие судьбы и намерения самых могущественных людей. Фрейду нравилась мысль о том, что он угадал механизмы, определившие культуру. Этот же принцип определяет нашу реакцию на художественные произведения, отвлеченные или иносказательные поэтические образы или кажущиеся нам драматичными сцены литературных произведений. Подросткам в особенности свойственно рассуждать о жизни и смерти — у них мало конкретного опыта, но уже довольно богатое воображение и вполне взрослые амбиции (или это наши амбиции остаются детскими?). Когда я снова читаю Диалоги Платона или рассуждения богословов вроде Фомы Аквинского, их рассуждения напоминают мне плохую литературу: слишком много общих фраз. Мне сразу же вспоминаются слова Ницше о том, что чем более общим является понятие, тем более оно является пустым. За логикой платоновских персонажей, говорящих о идее «единого», сложно внимательно следить, каждый отдельный шаг их рассуждений понятен, но общий смысл их усилий стремительно теряется из виду! Разумеется, разговор о чем-то настолько общем и, следовательно, общезначимом завораживает целевую аудиторию. Что может быть важнее по отдельности, чем все сразу? Зачем быть героем, если можно быть мудрецом, «знающим» и судьбу героя, и все остальные возможные судьбы? Дело не в том, что даже названия ролей «героя» и «мудреца» звучат архаично, просто нас не может не преследовать мысль о том, что где-то по дороге к подобным рассуждениям человеческий мозг совершает вполне конкретные ошибки и далее продолжает работать вхолостую, как мозг крысы в этологическом эксперименте.
Вы наверняка уже обратили внимание, что философия Платона часто опирается на миф. Про мифы в диалогах «Федон» и «Федр» уже было сказано. В десятой книге «Государства», например, Платон рассказывает историю посмертного опыта, перерождений и воздаяния, в которой причудливо переплетается мысль о полезности рационального философского выбора своей судьбы и архаичный сюжет о мойрах Лахесис, Клото и Атропос, раздающих жребии. В «Тимее» и «Критии» изложен знаменитый миф об Атлантиде, а в седьмой книге «Государства» — один из самых знаменитых платоновских мифов, рассказ о пещере. Этот миф выражает главную особенность всей платоновской философии, которую я бы назвал ее главным недостатком:
«…посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная — глянь-ка — невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол»20.
Смысл этой аллегории прост: реальность и жизнь — это тени идей. Идеи — это истина, а материя — это искажение истины. Это суть теории истины Платона. Платон прямо и буквально называет чувственный мир убожеством , а предметы умозрения — божественными :
«Область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи Солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, — это подъем души в область умопостигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль — коль скоро ты стремишься ее узнать, — а уж богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага — это предел , и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама — владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни»21.
Именно это категоричное убеждение в основании религий и радикальных проектов политического переустройства общества делает их опасными. Материальным можно поступиться во имя духовного. Жизнями людей — во имя идеалов. Высшее благо важнее интересов людей. Я недаром снова и снова сравниваю религию и идеологию, ведь Платон на основании своих представлений о космосе и человеческой природе создал и одно из самых первых представлений о социальной инженерии, возможно, даже первую из (анти)утопий. Весь цикл диалогов «Государства» и сочинение «Законы» — это мысли об инженерии общества, подчиненной умозрительным идеалам. В числе прочего Платон додумался даже до евгеники, как это мероприятие спустя тысячи лет назвал Фрэнсис Гальтон!
На фоне платоновской методологии и его идеализма, проекта устройства совершенного государства и восхождения разума к умопостигаемому Благу самому по себе, мысль о боге кажется даже несколько второстепенной, как бы это ни парадоксально звучало для верующих людей. Бог и боги-это уже заключительные штрихи космологии Платона. Вот диалог в «Тимее», где автор рассказывает миф о происхождении и устройстве бытия и месте в нем разума:
«Оно [небо, космос] возникло: ведь оно зримо, осязаемо, телесно, а все вещи такого рода ощутимы и, воспринимаясь в результате ощущения мнением, возникают и порождаются. Но мы говорим, что все возникшее нуждается для своего возникновения в некоей причине. Конечно, творца и родителя этой Вселенной Нелегко отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать. И все же поставим еще один вопрос относительно космоса: взирая, на какой первообраз работал тот, кто его устроял, — на тождественный и неизменный или на имевший возникновение? Если космос прекрасен, а его демиург добр, ясно, что он взирал на вечное; если же дело обстояло так, что и выговорить-то запретно, значит, он взирал на возникшее. Но для всякого очевидно, что первообраз был вечным: ведь космос — прекраснейшая из возникших вещей, а его демиург — наилучшая из причин»22.
Первообразу материальную действительность уподобляет Демиург (буквально — ремесленник). Это не христианский бог, и он играет только функциональную роль, действует как печатная матрица принтера. «Рассмотрим же, по какой причине устроил возникновение и эту Вселенную тот, кто их устроил. Он был благ, а тот, кто благ, никогда и ни в каком деле не испытывает зависти. Будучи ей чужд, он пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому. Усмотреть в этом вслед за разумными мужами подлинное и наиглавнейшее начало рождения и космоса было бы, пожалуй, вернее всего. Итак, пожелавши, чтобы все было хорошо и чтобы ничто, по возможности, не было дурно, бог позаботился обо всех видимых вещах, которые пребывали не в покое, но в нестройном и беспорядочном движении; он привел их из беспорядка в порядок, полагая, что второе, безусловно, лучше первого. Невозможно ныне и было невозможно издревле, чтобы тот, кто есть высшее благо, произвел нечто, что не было бы прекраснейшим; между тем размышление явило ему, что из всех вещей, по природе своей видимых, ни одно творение, лишенное ума, не может быть прекраснее такого, которое наделено умом, если сравнивать то и другое как целое; а ум не может обитать ни в чем, кроме души. Руководствуясь этим рассуждением, он устроил ум в душе, а душу в теле и таким образом построил Вселенную, имея в виду создать творение прекраснейшее и по природе своей наилучшее. Итак, согласно правдоподобному рассуждению, следует признать, что наш космос есть живое существо, наделенное душой и умом, и родился он поистине с помощью божественного провидения»23.
Демиург не относится уже к классическим греческим богам Пантеона, знакомым каждому из нас (наряду с ними Платон называет божественными существами… звезды). Он создает этих богов и поручает им создать человечество: «Боги богов! Я — ваш демиург и отец вещей, а возникшее от меня пребудет неразрушимым, ибо такова моя воля… Доселе еще пребывают нерожденными три смертных рода, а покуда они не возникли, небо не получит полного завершения: ведь оно не будет содержать в себе все роды живых существ, а это для него необходимо, дабы оказаться достаточно завершенным. Однако если эти существа возникнут и получат жизнь от меня, они будут равны богам. Итак, чтобы они были смертными и Вселенная воистину стала бы Всем, обратитесь в соответствии с вашей природой к образованию живых существ, подражая моей потенции, через которую совершилось ваше собственное возникновение. Впрочем, поскольку подобает, чтобы в них присутствовало нечто соименное бессмертным, называемое божественным [началом], и чтобы оно вело тех, кто всегда и с охотой будет следовать справедливости и вам, я вручу вам семена и начатки созидания; но в остальном вы сами довершайте созидание живых существ, сопрягая смертное с бессмертным, затем готовьте для них пропитание, кормите и взращивайте их, а после смерти принимайте обратно к себе»24.
Монистическое прочтение Платона ляжет потом в основание христианских ересей и гностицизма, в котором Демиург является антагонистом (исследования гностицизма по той скудной информации, которая у нас имеется, затруднительны и требуют отдельного изучения). Но вот что обращает на себя внимание: в «Тимее» нет ни одного личностного персонажа. Звезды, народные боги, Демиург, космический организм — это «сюжетные устройства», необходимые рассказчику для завершения истории, а не персонажи. Я не хочу сказать, что обладающие персональными качествами божества прогрессивнее (если этот термин Кондорсе вообще применим по отношению к последовательности мифологических сюжетов). Просто такова специфика платонизма. Мысль можно перевернуть: христианство, «привязанное» к телу иудаизмом, кажется в этой позиции более архаичным и неловким.
Окончательные черты мистического учения философия Платона приобретает в неоплатонизме, в творчестве Плотина и Порфирия. Плотин ввел в платоновское мироздание Единое (платоновское «единое» из диалога «Парменид» с заглавной буквы), которое также и Благо само по себе. Согласно трактату «О Благе или Едином» человеческая душа стремится к объединению с Единым: «…мы лучше существуем, когда обращены к нему, и там — наше благо, а быть вдали [от него] — значит быть одиноким и более слабым. Там и успокаивается душа, чуждая зла, вернувшись в место, чистое от зла. Там она мыслит, и там она бесстрастна. Там — истинная жизнь, ибо жизнь здесь — и без бога — есть [лишь] след, отображающий ту [жизнь]. А жизнь там есть активность ума, активностью и порождает душа богов в безмолвном прикосновении с „тем“. Она порождает красоту, порождает справедливость, порождает добродетель. Этим бременеет душа, наполненная богом, и это для нее начало и конец, начало — потому что она оттуда, и конец — потому что благо находится там, и, когда она туда прибывает, она становится тем, чем она, собственно, и была. А то, что здесь и среди этого мира, есть [для нее] падение, изгнание и потеря крыльев»25.
Плотин ясно распределяет роли Единого, Души и Ума, о которых говорил Платон. Представление Плотина об объединении с Единым как с Благом самим по себе, об отпадении от Единого и, следовательно, утрате Блага, мистическом богопознании через аскезу и отрешение от всего материального, — сущность христианского богословия. Единое Плотина — идеально изображенный христианский патриотический бог, только без личных черт, чудес или антиномий. Христианское богословие принимает элементы неоплатонизма уже через Оригена. Понять Платона и неоплатонизм — означает целиком и полностью, исчерпывающим образом понять христианство Вселенских соборов. При том, что о конфликте между каноническим богословием и неоплатонизмом и позже анафемой последнего хорошо известно, огромное влияние Платона и неоплатоников на христианство не сможет отрицать ни один серьезный богослов. Достаточно вспомнить, как много внимания уделил этому Владимир Лосский в очерке о восточном богословии. Неоплатонические мотивы в христианство привнесли Августин и Ориген, которые крайне положительно оценивали труды Платона и его последователей и видели в этих трудах буквально исток христианства.
Конечно, для христиан важны отдельные различия между платонизмом и христианским богословием. Например, по словам Иустина Философа «только существо, состоящее из соединения обоих [души и тела], называется человеком». То есть в христианстве индивидуальность состоит из души и тела одновременно. При этом, что любопытно, душа до Страшного суда и жизни Нового века существует отдельно от тела, в боге (тело очевидным образом продолжает пребывать в падшем тварном мире), как это суммирует на основании Предания и Писания наш современник митрополит Иларион (Алфеев):
«По церковному преданию, основанному на словах Христа, души праведников относятся ангелами в преддверие рая, где они пребывают до Страшного Суда, ожидая вечного блаженства: „Умер нищий (Лазарь), и отнесен был ангелами на лоно Авраамово“ (Лк 16:22). Души грешников попадают в руки демонов и находятся „в аду, в муках“ (Лк 16:23). Окончательное разделение на спасенных и осужденных произойдет на Страшном Суде, когда „многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление“ (Дан 12:2). Христос в притче о Страшном Суде подробно говорит о том, что грешники, не творившие дел милосердия, будут осуждены и отвергнуты богом, а праведники, творившие такие дела, будут оправданы: „И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную“ (Мф 25:46)».
Затем душа узнает приговор о своей дальнейшей участи. Этот приговор не окончательный, так как окончательное решение будет вынесено на Страшном суде. Однако с этого момента душа находится в предвкушении блаженства или в страхе мучений. До Страшного суда возможны изменения в ее судьбе: «Мы утверждаем, — пишет святитель Марк Ефесский, — что ни праведные еще не восприняли полностью свой удел… ни грешные после смерти не были отведены в вечное наказание… И то, и другое необходимо должно быть после последнего того дня Суда и воскресения всех. Ныне же и те, и другие находятся в свойственных им местах: первые в совершенном покое свободными находятся на небе с ангелами и пред Самим Богом и уже как бы в раю… вторые же, в свою очередь, пребывают… во всякой тесноте и безутешном страдании, как некие осужденные, ожидающие приговора Судьи… Та радость, какую ныне имеют души святых, есть частичное наслаждение, как и скорбь, какую имеют грешники, есть частичное наказание». Святой Марк ссылается на слова бесов, сказанные ими Христу: «Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф 8:29), из которых заключает, что мучения диавола и бесов еще не начались, а только «уготованы» им (Мф 25:41)26.
Кажущееся избыточным объединение в одном мифе бессмертия души, которая существует после смерти тела, и воскресение в телах из «праха земли» после Страшного суда — на мой взгляд, не более чем атавизм, рудиментарный след вещественного иудаизма, не знавшего никакого спасения или объединения с богом, но знакомого с буквальным воскресением мертвецов, — в платоническом по своей сути христианском богословии. Единственное, что я хочу этим сказать: христианство эклектично соединяет в себе иудейскую традицию и эллинизм. Я понимаю, что это может вызвать возражения, но такие возражения, как я полагаю, будут чисто эмоциональными, а не логическими. Кроме этого, часто приходится слышать, что христианство не отрицает телесность. Это не так. Христианство не отрицает лишь воображаемую совершенную телесность, «очищенную от греха», но реальную телесность называет вслед за Григорием Великим «омерзительным одеянием души». Повторю еще раз: христианство отрицает телесность, действительность и жизнь в пользу умозрительных идеалов в точности так же, как это делает Платон. Та жизнь Нового века, которая будто бы ждет христианина после спасения, не менее умозрительна, чем «мир на берегу воздуха» в «Федоне» или Атлантида в «Критии» и «Тимее».
Хотя подобные детали могут казаться богословам принципиальными, со стороны все это кажется незначительными нюансами единой схемы. Единым для христианства и платонизма являются постулаты, без которых невозможно ни то, ни другое.
Есть благо и есть недостаток блага. Есть совершенные вещи и есть несовершенные вещи. Бог является благом, Единое является благом. Тварный мир несовершенен. Это означает, что он не соответствует умозрительным идеалам Платона или, например, Августина. Эта предпосылка гипостазирует, то есть превращает в нечто онтологического порядка, случайные эмоциональные потребности, присущие античным философам или христианским богословам. Не нравится Платону поэзия, это лишь изображение истины, а не ее постижение? Значит, поэтов следует изгонять из государства. Отцы церкви являются антисемитами? На Трулльском Вселенском соборе провозглашается запрет пользоваться услугами иудеев-врачей и мыться с иудеями в одной бане. Отсюда важный вывод: идеалы представляют собой оценочные высказывания , которые, как я покажу в дальнейшем, вообще не являются истиной или ложью. Идеалы постулируются в силу индивидуальных интересов их авторов. На основании подобных постулатов нельзя получить умозаключения, имеющие истинностное значение (либо истина, либо ложь). Все категоричные оценочные суждения христианства существуют только за счет такой незамысловатой платоновской логики.
С этим постулатом связан второй постулат: целью человеческой жизни является достижение соответствующих идеалов. Человек должен быть философом и постигать идеи или должен спастись (что бы это самое спасение ни означало). Подобная цель будто бы присуща каждому человеку, но в действительности путь к спасению представляет собой такой образ жизни, который удобен и привычен рассуждающему о нем автору. Нравится Платону заниматься сексом с мальчиками-подростками вроде Федра? Следовательно, это путь постижения прекрасного самого по себе. Не способен какой-либо богослов быть с женщиной? Следовательно, сексуальные отношения — это грязь и похоть, а подлинный духовный подвиг — целибат. Боится какой-либо христианин соревнования и конкуренции? Он уходит в монастырь. Совершенно не важно, какой конкретно способ существования предписывает религия: целибат или тантрический секс. Апологеты христианства могут говорить, что их цели и цели общества, вроде сборов налогов, поддержания морали или политической стабильности, одинаковы, а могут утверждать, что им общество безразлично. Важно, что вся риторика каждого миссионера любой религиозной группы имеет для аудитории смысл лишь постольку, поскольку аудитория стремится к религиозной цели вроде спасения или нирваны. Если такая цель кажется бессмыслицей, любой путь к ней — бессмысленная практика. Ритуал культа Карго. Но иногда подобное теряется из виду в дискуссии с миссионерами. Последние демагогическим образом навязывают культовое понимание «нравственности» даже тем, кому высшая цель религии неинтересна .
Еще один метафизический постулат заключается в том, что человеческая индивидуальность имеет сверхъестественный характер и не может подвергнуться материальному влиянию. Это дуализм души и тела, общий для богословов, Платона и Декарта. Противоположное убеждение, согласно которому работа ума и мышления определяется состоянием мозга, уничтожает единую для христианства и античности мысль о свободе ума и воли, о бессмертной и автономной индивидуальности. Физикализм, кибернетика и нейробиология гораздо страшнее для любой религии, чем эволюционная биология или астрофизика. Если все то, что представляет собой наша индивидуальность — лишь содержимое нейронной памяти и на эту память можно воздействовать инструментально, то весь метафизический персонализм каждой человеческой культуры, включая ориентальный и ближневосточный, лишается всякого смысла . Коротко говоря, прогресс науки приводит к единственной мысли, что никакого неделимого и вечного человеческого субъекта не существует, есть только нейрогуморальные состояния мозга и память, и этот логический вызов ужаснее для культов и верований, чем любая информация о том, что у шимпанзе и людей общий предок. В сущности, произведен ли человек из красной глины или же из другого примата, для богословия в широком смысле не важно (в этом отношении замечание митрополита Илариона о том, что христианство возвышает человека в сравнении с атеизмом, производящим его из обезьяны, с философской точки зрения демагогично: чтобы согласиться с этим доводом, следует сперва неявным образом принять в качестве предпосылки дихотомию «возвышенного» и «низменного», которая, как мы убедились на примере платонизма, совершенно произвольна и покоится на произвольно взятых постулатах), — а вот без индивидуальности как таковой нет и индивидуального восхождения.
Я думаю, что становится совершенно очевидным то, что христианство существует только благодаря платонизму и на основании его внутренней логики. Если эту логику из христианства убрать, оно развалится на бессвязные составляющие. Заметьте, я не говорю о боге (любом боге). Бог в масштабах истории религии — это частность. В конце концов, Яхве, которого поборол Иаков в единоборстве, и подобный Единому тринитарный бог — совершенно разные персонажи. Метафизическая антропология, которую христианство заимствует из платонизма, гораздо важнее для будущего веры Христовой и для религиозности в целом.
Уже в эпоху Возрождения, когда ослабевают узы христианства, платонизм дает начало гуманизму в творчестве таких авторов, как итальянский философ-гуманист и неоплатоник второй половины XV века Джованни Пико из рода герцогов Мирандола, с его знаменитой «Речью о достоинстве человека»27, которая должна была стать вступлением к философско-теологическому диспуту в Риме. Пико делла Мирандола от лица персонажа-Творца обращается к Адаму как символу человеческого рода:
«Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю…. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь»28.
Речь Пико объединяет иудейские, христианские и пифагорейские мифологические сюжеты о человеческой природе и платонизм. Как и у Платона в диалоге «Федон», у Пико способ достижения особого метафизического состояния, близкого к божественному, заключается в преодолении низменной страсти и стремлении к рациональному познанию сферы идеального. Однако для Пико как для гуманиста особенную ценность представляет не умопостигаемый мир эйдосов, а особенность человеческой природы, заключающаяся в ее подвижности относительно элементарного, небесного и ангельского планов.
Когда я перечитываю эти строки, мне начинает казаться, что Платон создал наиболее совершенный, безупречный и простой религиозный миф в истории человеческой цивилизации. Миф Платона не связан с архаичными мифами отдельно взятых народов, будь то поклоняющихся Дану кельтов или заключивших договор с Яхве иудеев. В нем нет подтверждений в форме вульгарных чудес вроде превращения воды в вино в христианском мифе. Обещания восхождения у Платона остроумнее и интереснее, чем мировое господство для иудеев, коммунизм для марксиста или покорные девственницы для правоверного мусульманина. Аудитории платоновского мифа, к которой может относиться и эллин, и иудей, и индус, достаточно просто самостоятельно совершить интеллектуальное усилие. Вегетарианство, обрезание или намаз не нужны. Платонизм легко и свободно существует безо всякого гуру или мессии. Платон внеисторичен и универсален. Платонический миф невозможно дискредитировать экклесиологией (философии не нужны механизмы насилия и бюрократия церкви). Подобно буддизму, в платоническом мифе нет проблемы вечных адских мук или апокатастасиса: душа претерпевает череду перерождений, пока не достигнет восхождения, ей незачем навсегда оставаться в бессмысленном состоянии «депривации блага», которым ей угрожают ислам и христианство. Благо как таковое как раз и должно подразумевать полное и тотальное усовершенствование «несовершенного» или восполнение «падшего», иначе чего в нем такого благого? Но в отличие от буддийских мыслителей Платон называет целью человеческого существования не просто бегство от страдания, а интеллектуальную деятельность ума, и это совершенно логично следует из его эпистемологии. Я не могу сказать, что платонические диалоги «держат воду» по гамбургскому счету, то есть что он свободен от полемических уловок, но они все же рассматривают собственные предпосылки как требующие рационального доказательства, а не как нечто священное и самоочевидное.
К мифу Платона просто нечего добавить! Его логика пронизывает не только самые великие религиозные мифы или самые выдающиеся метафизические системы рассуждений, но даже всю современную массовую культуру, включая сочинения Толкиена, в которых злой дух Моргот искажает тварный мир, сайентологию Хаббарда с припоминанием подлинного бытия при помощи аналога психоанализа, учение рыцарей-джедаев из фильмов Джорджа Лукаса, которые «объединяются с Силой», или наркотические «путешествия» Карлоса Кастанеды. В современной массовой культуре Платон неявным образом не менее вездесущ, чем второй столь же одиозный исторический персонаж — австрийский художник-пейзажист Адольф Гитлер, определивший вместе с модельером Хьюго Боссом и архитектором Альфредом Шпеером в воображении европейцев эстетику абсолютного зла. Однако немногие полностью отдают себе отчет в том, что преступные диктаторы Гитлер и Сталин — наиболее последовательные в своем методе платоники. Приведу цитату в доказательство. В своем сочинении «Законы» Платон конструировал переходное на пути к идеалу общество. В этом сочинении Платон говорит о трех типах людей: которые отрицают существование богов, которые считают богов безразличными по отношению к людям и которые, наконец, считают богов расположенными к влиянию при помощи жертвоприношений. Все эти взгляды для Платона недопустимы, потому что он видит в богах высшее благо, а в вере в богов инструмент законодателя (поэтому даже предлагает запретить частные алтари, а разрешить только общественные). Поэтому он призывает жестоко наказывать за неверие в богов. Вот что Платон устами своего персонажа говорит о безбожниках: «…те, кто совершенно отрицает бытие богов, но от природы обладает справедливым характером, ненавидят дурных людей и, из-за глубокого отвращения к несправедливости, не склонны к совершению подобных проступков, избегают людей несправедливых, а справедливых любят. Другой же род — это те, у кого к мнению, будто Вселенная лишена богов, добавляется невоздержанность в удовольствиях и страданиях, хотя они и обладают сильной памятью и прекрасной восприимчивостью к наукам. Общая болезнь тех и других та, что они не признают богов; но первые творят меньше зла на пагубу остальных людей, чем вторые. Они в своих речах преисполнены дерзости в отношении богов, жертвоприношений, клятв и смеются также надо всем остальным; быть может, они и других людей сделали бы такими же, если бы их не настигало вовремя правосудие. Вторые держатся того же мнения, что и первые, слывут за людей одаренных, но исполненных коварства и злокозненных. Из этого рода людей выходят многие прорицатели, люди, занимающиеся всевозможной ворожбой, а иногда и тираны, демагоги, военачальники, основатели частных таинств, а также и изощренные так называемые софисты. Разновидностей подобного рода людей много; но особого законоположения достойны две из них: те, кто принадлежит к одной из них, а именно лицемеры, заслуживают более чем смертной казни; люди же второй разновидности нуждаются в увещании и тюремном заключении»29.
Как видите, критерием для Платона является даже не поведение и его реальная польза или вред (это принципы привычного нам законодательства, по крайней мере в теории), а мысли и убеждения по самым отвлеченным поводам. В буквальном смысле Платон говорит о мыслепреступлениях, в этом — узнаваемая черта не просто тирании, но тоталитаризма или теократии. Вот как Платон предлагает решать проблему мыслепреступлений, убеждать людей (тех, кого не следует убивать сразу) в мифах, которые кажутся ему сообразными его философствованию или инструментальными: «Ввиду существующей между ними разницы судья, опираясь на закон, должен присудить тех, кто впал в нечестие по неразумию, а не по злому побуждению и нраву, к заключению в софронистерий не меньше чем на пять лет. В течение этого времени никто из граждан не должен иметь к ним доступа, кроме участников Ночного собрания, которые будут его увещевать и беседовать с ним ради спасения его души. Когда же истечет срок заключения, тот из них, кто покажет себя рассудительным, пусть получит свободу и живет вместе с другими рассудительными людьми. В противном же случае, то есть если он снова заслужит подобное наказание, его следует покарать смертью»30.
Как видите, мысль о том, что следует наказывать тех, кто не разделяет убеждения, тоже платоническая. Когда девушек из группы «Pussy Riot» в нарушение всех принципов законодательства и здравого смысла бросают в тюрьму только из-за профанации религиозных идей православия, Владимир Путин поступает как последователь Платона (они оба, похоже, воспринимают религиозную веру как политический инструмент, а покушение на верования — как покушение на власть). Заметьте: у тоталитаризма и утопии единые корни.
Пожалуй, единственная проблема самого платонизма заключается в том, что он является слишком отвлеченным, он способен заинтересовать только тех, кто внимателен к его содержанию. Если рассуждения Платона сравнить с талантливой литературой, то другие религиозные мифы напоминают экранизации этой литературы, — доступные самой широкой аудитории, со специальными эффектами и обилием пиротехники, но не всегда полные или последовательные. Христианство — платонизм для народа, как говорил Ницше. Я сказал, что внеисторический универсальный характер платоновского мифа есть его преимущество, но именно по этой причине Платону не хватает мелодраматизма : кроме до смешного невозмутимой фигуры Сократа и его неумолимой участи (сократовский стоицизм не помешал бы другому мученику за истину в Гефсиманском саду) в мифе об эйдосах нет других героев. Тут нет конфликта, подобного конфликту Иисуса и Иуды, нет и категоричного манихейства, пятиминуток ненависти к неверным или доктрины «честной игры». Нет тут ни чудес, ни удивительно точных предсказаний, ни внутреннего круга посвященных и торжественной инициации, ни злодеев и хтонических чудовищ, ни артефактов, ни загадок! Разве только сюжет о самом знаменитом мифологическом городе-государстве Атлантиде, но и тот уже давно мыслится отдельно от своего автора, как предмет теорий заговора и приключенческого вымысла.
Должны ли мы заключить, что Платон слишком скучен для неискушенной публики? То есть является ли залогом успеха мифа эмоциональная «нагруженность», обращение к наиболее широкой целевой аудитории, даже если логическая сторона мифа заставляет желать лучшего? Полагаю, да. Хорошая религия прежде всего построена на убеждении и внушении, даже если ее метафизические основания запутаны и противоречивы. Человеческие слабости лидеров культов могут быть компенсированы упрямой демагогией об их величии и выдающихся качествах. Верховные клерикалы не будут спорить с оппонентами, проще расправиться с ними. Религия подобно сетевому маркетингу или политической пропаганде должна настойчиво и бескомпромиссно вмешиваться в жизнь каждого из прихожан. Поверить во вторичные метафизические домыслы — все равно что «купить слона». Религия должна быть убедительной и категоричной. Она должна эксплуатировать чувство вины так же, как политическая демагогия эксплуатирует образ врага и гомеровской «Осажденной крепости». Религии нужны гуру и мессии. Без конфликтной фигуры, обладающей истерическим характером, харизмой и талантом публичных выступлений, религия напоминает частный клуб по интересам. Неспешные беседы завсегдатаев частного клуба не доведут толпу до исступления, как это делали христианские проповедники или нацистские ораторы.
Однако для проницательного читателя все вышеперечисленное представляет собой избыточность по отношению к определяющей логической структуре. Пусть философия в чистом виде не так интересна широкой публике, как чудеса и пророчества, но именно ее логика связывает религиозные сюжеты воедино. Платонизм — это структура и логика христианства и ислама, а в более широком смысле — любой современной религии, а истории о жизни Иисуса или Мухаммеда — это избыточный уровень религиозных традиций. Аналогичным образом можно анализировать литературные сюжеты, как это делал Владимир Пропп с волшебной сказкой, в которой он выделял повторяющиеся темы, функции персонажей и структуры, или основоположник структурной антропологии Клод Леви-Стросс — с мифом.
Любой разговор о религии сегодня — это разговор в терминах Платона. Без платоновского понятийного аппарата и логики от централизованной и действующей современной религии останется лишь мифология. С подобных позиций иудаизм воспринимается больше как народное верование, но и иудаизм воспринял античное эллинское влияние (Талмуд и каббала), а современная дискуссия об иудаизме также будет возможна лишь в платоновских терминах. Буддизму и другим ориентальным традициям могут быть свойственны собственные метафизические установки, но чтобы оценить и проанализировать их, мы сравниваем их с греческой философией. Все вышесказанное не означает сверхъестественного характера платонизма. Просто платонизм — это выдающийся случай развернутого религиозно-философского мифа, который сыграл большую историческую роль. Если дискуссия об отдельной религии, например о генезисе послепасхальной веры в воскресение Иисуса, будет частной, дискуссия об античной философии позволяет, как мы видим, выявлять наиболее общее из того, что присуще религии в широком смысле.
2. В поисках Первопричины. Великое заблуждение Аристотеля
Платон подарил миру категоричный идеализм и онтологию идеализм и онтологию души и тела. Ученик Платона Аристотель, интересный своей «Логикой» и замечательными рассуждениями о политике, определил философскую мысль о целях и причине. Аристотель употреблял эти слова вовсе не так, как этого требует эмпирический здравый смысл или как это принято в науке. И это метафизическое словоупотребление неявным образом присуще любой современной религии.
Любая апологетика представляет религиозную традицию как набор ответов на вечные вопросы. Однако природа таких вопросов сама по себе никогда не становится предметом апологии. Религиозная вера опирается на неявное утверждение о том, что у всего должна быть своя причина и своя цель. Все остальные вопросы катехизиса вторичны этому базису. Пытаться дать ответы на вопросы веры, даже отрицательные — значит непроизвольно признать подобные утверждения за истину. Оппонент религиозного полемиста, соглашающийся, что без веры в жизни человека нет цели, а у происходящего с человеком нет причины, совершает полемическую и философскую ошибку.
На деле подобные утверждения не являются ни ложью, ни правдой. Этим утверждениям трудно или невозможно подобрать эквивалент: совершенно не ясно, что же они на самом деле означают, по каким правилам верующие люди употребляют такие слова, как «причина» или «смысл». То есть для большинства верующих это такая же «покрытая мраком веков» тайна.
«Метафизика» — вот сочинение, в котором учитель Александра Македонского изложил свои представления о причинности. Рассуждения Аристотеля о единичном и общем в этом его сочинении напоминают рассуждения Платона. Аристотель начинает свое рассуждение о причинности с проблемы соотношения опыта и знания:
«В отношении деятельности опыт, по-видимому, ничем не отличается от искусства; мало того, мы видим, что имеющие опыт преуспевают больше, нежели те, кто обладает отвлеченным знанием, но не имеет опыта. Причина этого в том, что опыт есть знание единичного, а искусство — знание общего, всякое же действие и всякое изготовление относится к единичному: ведь врачующий лечит не человека [вообще], разве лишь привходящим образом, а Каллия, или Сократа, или кого-то другого из тех, кто носит какое-то имя, — для кого быть человеком есть нечто привходящее. Поэтому если кто обладает отвлеченным знанием, а опыта не имеет и познает общее, но содержащегося в нем единичного не знает, то он часто ошибается в лечении, ибо лечить приходится единичное. Но все же мы полагаем, что знание и понимание относятся больше к искусству, чем к опыту, и считаем владеющих каким-то искусством более мудрыми, чем имеющих опыт, ибо мудрость у каждого больше зависит от знания, и это потому, что первые знают причину, а вторые нет. В самом деле, имеющие опыт знают „что“, но не знают „почему“; владеющие же искусством знают „почему“, т. е. знают причину. Поэтому мы и наставников в каждом деле почитаем больше, полагая, что они больше знают, чем ремесленники, и мудрее их, так как они знают причины того, что создается. <А ремесленники подобны некоторым неодушевленным предметам: хотя они и делают то или другое, но делают это, сами того не зная (как, например, огонь, который жжет); неодушевленные предметы в каждом таком случае действуют в силу своей природы, а ремесленники — по привычке.> Таким образом, наставники более мудры не благодаря умению действовать, а потому, что они обладают отвлеченным знанием и знают причины. (Курсив мой. — Д.К. ). Вообще признак знатока — способность научить, а потому мы считаем, что искусство в большей мере знание, нежели опыт, ибо владеющие искусством способны научить, а имеющие опыт не способны»31.
«Таким образом, ясно, что мудрость есть наука об определенных причинах и началах»32, — заключает Аристотель.
То есть опытные данные, обобщение опыта и ремесло для автора «Метафизики» вторичны умозрению потому, что первые направлены на решение прагматических задач и имеют дело с единичными случаями, а умозрение направлено на отвлеченный поиск общих причин. Важно, что аристотелевское представление о причинности не может быть получено из опыта. Аристотель видит в умозрительных рассуждениях знание ради знания:
«Вот каковы мнения и вот сколько мы их имеем о мудрости и мудрых. Из указанного здесь знание обо всем необходимо имеет тот, кто в наибольшей мере обладает знанием общего, ибо в некотором смысле он знает все подпадающее под общее. Но, пожалуй, труднее всего для человека познать именно это, наиболее общее, ибо оно дальше всего от чувственных восприятий. А наиболее строги те науки, которые больше всего занимаются первыми началами: ведь те, которые исходят из меньшего числа [предпосылок], более строги, нежели те, которые приобретаются на основе прибавления [например, арифметика более строга, чем геометрия). Но и научить более способна та наука, которая исследует причины, ибо научают те, кто указывает причины для каждой вещи. А знание и понимание ради самого знания и понимания более всего присущи науке о том, что наиболее достойно познания, ибо тот, кто предпочитает знание ради знания, больше всего предпочтет науку наиболее совершенную, а такова наука о наиболее достойном познания. А наиболее достойны познания первоначала и причины, ибо через них и на их основе познается все остальное, а не они через то, что им подчинено. И наука, в наибольшей мере главенствующая и главнее вспомогательной, — та, которая познает цель, ради которой надлежит действовать в каждом отдельном случае; эта цель есть в каждом отдельном случае то или иное благо, а во всей природе вообще — наилучшее.
Итак, из всего сказанного следует, что имя [мудрости] необходимо отнести к одной и той же науке: это должна быть наука, исследующая первые начала и причины: ведь и благо, и „то, ради чего“ есть один из видов причин»33.
Аристотель утверждает, что у каждого предмета есть четыре причины:
• форма или сущность предмета;
• материя, из которой состоит предмет;
• источник изменения (движения) предмета;
• цель предмета.
«Совершенно очевидно, что необходимо приобрести знание о первых причинах: ведь мы говорим, что тогда знаем в каждом отдельном случае, когда полагаем, что нам известна первая причина. А о причинах говорится в четырех значениях: одной такой причиной мы считаем сущность, или суть бытия вещи (ведь каждое „почему“ сводится в конечном счете к определению вещи, а первое „почему“ и есть причина и начало); другой причиной мы считаем материю, или субстрат; третьей — то, откуда начало движения; четвертой — причину, противолежащую последней, а именно „то, ради чего“, или благо (ибо благо есть цель всякого возникновения и движения). Итак, хотя эти причины в достаточной мере рассмотрены у нас в сочинении о природе, все же привлечем также и тех, кто раньше нас обратился к исследованию существующего и размышлял об истине. Ведь ясно, что и они говорят о некоторых началах и причинах. Поэтому, если мы разберем эти начала и причины, то это будет иметь некоторую пользу для настоящего исследования; в самом деле, или мы найдем какой-нибудь другой род причин, или еще больше будем убеждены в истинности тех, о которых говорим теперь»34.
Мы не знаем истины, не зная причины , — говорит Аристотель.
Только благодаря Аристотелю могут быть понятны корни религиозного представления о боге как первопричине существования «тварного» мира. Из рассуждений о «причинах сущего» Аристотель пришел к мысли о первопричине как том, «что движет, не будучи приведено в движение». Мысль о первоначале была свойственна авторам до Аристотеля, поэтому он последовательно перечисляет и комментирует воззрения своих предшественников, включая Платона. Разногласие Платона и Аристотеля касается представления об идеях и о началах вещей соответственно. Аристотелю не по душе была мысль об эйдосах, существующих помимо вещей. В его представлении идеи представляют собой лишь одно из начал вещей (то есть сущность), наряду с материей, а также целью и, что особенно важно, источником движения. А мысль о том, что сущность вещи существует отдельно от самой вещи, Аристотель находил странной и ошибочной. Кроме того, эйдосы лишены всякого движения.
Для нашего разговора важно то, что рассуждение о причинах вещей непроизвольно приводит к поиску первопричины, которая «есть вечная, неподвижная и обособленная от чувственно воспринимаемых вещей сущность». Аристотель отвергает бесконечную цепочку причин. У всего движения мира должен быть свой источник. Именно по этой простой причине в творчестве Аристотеля и появился бог.
«Далее, „то, ради чего“, — это конечная цель, а конечная цель — это не то, что существует ради другого, а то, ради чего существует другое; так что если будет такого рода последнее, то не будет беспредельного движения; если же нет такого последнего, то не будет конечной цели. А те, кто признает беспредельное [движение], невольно отвергают благо как таковое; между тем никто не принимался бы за какое-нибудь дело, если бы не намеревался прийти к какому-нибудь пределу. И не было бы ума у поступающих так, ибо тот, кто наделен умом, всегда действует ради чего-то, а это нечто — предел, ибо конечная цель есть предел»35.
Итак, отыскать начало причин и цель целей — значит отыскать бога. Вот что Аристотель говорит о поиске начал:
«Началом называется то в вещи, откуда начинается движение, например у линии и у пути отсюда одно начало, а с противоположной стороны — другое; то, откуда всякое дело лучше всего может удасться, например обучение, надо иногда начинать не с первого и не с того, что есть начало в предмете, а оттуда, откуда легче всего научиться; та составная часть вещи, откуда как от первого она возникает, например: у судна — основной брус и у дома — основание, а у живых существ одни полагают, что это сердце, другие — мозг, третьи — какая-то другая такого рода часть тела, то, что, не будучи основной частью вещи, есть первое, откуда она возникает, или то, откуда как от первого естественным образом начинается движение и изменение, например: ребенок — от отца и матери, ссора из-за поношения; то, по чьему решению двигается движущееся и изменяется изменяющееся, как, например, начальствующие лица в полисах и власть правителей, царей и тиранов; началами называются и искусства, причем из них прежде всего искусства руководить; то, откуда как от первого познается предмет, также называется его началом, например основания доказательств. И о причинах говорится в стольких же смыслах, что и о началах, ибо все причины суть начала. Итак, для всех начал общее то, что они суть первое, откуда то или иное есть, или возникает, или познается; при этом одни начала содержатся в вещи, другие находятся вне ее. Поэтому и природа, и элемент, и замысел (dianoia), и решение, и сущности, и цель суть начала: у многого благое и прекрасное суть начало познания и движения»36.
Тут же Аристотель более подробно рассуждает о том, как он пришел к понятию причины:
«Причиной называется то содержимое вещи, из чего она возникает; например, медь — причина изваяния и серебро — причина чаши, а также их роды суть причины; форма, или первообраз, а это есть определение сути бытия вещи, а также роды формы, или первообраза (например, для октавы — отношение двух к одному и число вообще), и составные части определения; то, откуда берет первое свое начало изменение или переход в состояние покоя; например, советчик есть причина, и отец — причина ребенка, и вообще производящее есть причина производимого, и изменяющее — причина изменяющегося; цель, т. е. то, ради чего, например, цель гулянья — здоровье. В самом деле, почему человек гуляет? Чтобы быть здоровым, говорим мы. И, сказав так, мы считаем, что указали причину. Причина — это также то, что находится между толчком к движению и целью, например: причина выздоровления — исхудание, или очищение, или лекарства, или врачебные орудия; все это служит цели, а отличается одно от другого тем, что в одном случае это орудие, в другом — действие»37.
Особое место у Аристотеля занимает движение, которое является общей космической силой изменений, без которой бы предметы не могли бы изменяться, а состояния не могли бы становиться действительными из потенциальных: «…действие (energeia) того, что приводит в движение, не другое [нежели у движущегося], ибо оно должно быть осуществлением того и другого; в самом деле, нечто может приводить в движение благодаря тому, что способно к этому, а приводит в движение благодаря тому, что действует, но деятельно оно по отношению к тому, что может быть приведено в движение, так что действие у обоих в равной мере одно точно так же, как одним и тем же бывает расстояние от одного к двум и от двух к одному, равно как и подъем и спуск, хотя бытие у них не одно; и подобным же образом обстоит дело с движущим и движущимся»38.
Между прочим, вспомните понятие «силы» у Ньютона! Изменение как переход из потенциального состояния в актуальное легко напомнит любому, кто знаком со школьной программой по физике, о потенциальной и кинетической энергиях. Между абстракциями, которые использовали ранние ученые, и терминами классической философии есть очевидная преемственность! Это, разумеется, не говорит ничего о физических фактах, а лишь о наших способах описания фактов и моделирования ситуаций. Должны были пройти века, а представление о «законах природы» Ньютона смениться современными представлениями о теориях и их объяснительной силе, которыми мы обязаны Попперу. Возможно, мы слишком жестоки к классическому философствованию, когда видим в нем лишь мифотворчество и религиозные фикции. Возможно, человеческий вид должен был пройти длительный путь использования языка и способов коллективного запоминания, от рисунков в пещере Ласко и поэзии Гесиода до эпохи становления научного метода, и политические идеологемы и культы на этом пути были неизбежными издержками.
Первопричина Аристотеля является источником всего движения в мире. Аристотель утверждает, что движение как причина отличается от сущности или цели. В итоге бог у Аристотеля (по сути своей совершенно непохожий на имеющего волевые и личностные качества христианского бога) представляет собой источник всего движения, форму всех форм и конечную цель бытия — благо. О первоначале Аристотель рассуждает в XII книге «Метафизики»:
«…существует нечто вечно движущееся беспрестанным движением, а таково движение круговое; и это ясно не только на основе рассуждений, но и из самого дела, так что первое небо, можно считать, вечно. Следовательно, существует и нечто, что его движет. А так как то, что и движется и движет, занимает промежуточное положение, то имеется нечто, что движет, не будучи приведено в движение; оно вечно и есть сущность и деятельность и движет так предмет желания и предмет мысли; они движут, не будучи приведены в движение»39.
«И жизнь поистине присуща ему, ибо деятельность ума — это жизнь, а бог есть деятельность; и деятельность его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы говорим поэтому, что бог есть вечное, наилучшее живое существо, так что ему присущи жизнь и непрерывное и вечное существование, и именно это есть бог»40.
«…есть вечная, неподвижная и обособленная от чувственно воспринимаемых вещей сущность; показано также, что эта сущность не может иметь какую-либо величину, она лишена частей и неделима (ибо она движет неограниченное время, между тем ничто ограниченное не обладает безграничной способностью; а так как всякая величина либо безгранична, либо ограниченна, то ограниченной величины эта сущность не может иметь по указанной причине, а неограниченной — потому, что вообще никакой неограниченной величины нет); с другой стороны, показано также, что эта сущность не подвержена ничему и неизменна, ибо все другие движения — нечто последующее по отношению к пространственному движению. Относительно всего этого ясно, почему дело обстоит именно таким образом»41.
Таким образом, божественная сущность, которую описывает в XII книге «Метафизики» Аристотель, представляет собой неподвижный и неизменный источник всякого движения, форму и цель всего, что существует. Это живое существо, обладающее умом, который мыслит сам себя, но при этом совершенно абстрактное и лишенное персональных качеств. Оно отличается от Демиурга Платона, поскольку тот не является первоначалом космоса, а лишь исполнителем, «ремесленником».
Метафизическая логика Аристотеля, в свою очередь, лежит в основании доказательств бытия бога, которые Фома Аквинский перечисляет в сочинениях «Сумма теологии» и «Сумма против язычников». Если мы не пренебрегаем аристотелевской онтологией, то значительно лучше понимаем мысль средневековых богословов, но именно поэтому же нам становится гораздо проще критиковать античные корни теологии. Итак, Фома Аквинский в «Сумме теологии» говорит, что «бытие Божие может быть доказано пятью путями» (пять доказательств бытия бога):
«Первый и наиболее очевидный путь исходит из движения. В самом деле, несомненно и подтверждается чувствами, что в мире имеется нечто движимое. Но все, что движимо, движимо чем-то иным. Ибо все, что движется, движется только потому, что находится в потенции к тому, к чему оно движется, а движет нечто постольку, поскольку оно актуально. Ведь движение есть не что иное, кроме как перевод чего-либо из потенции в акт. Но нечто может быть переведено из потенции в акт только неким актуальным сущим. Так, актуально горячее, например огонь, делает дерево, которое есть горячее в потенции, горячим актуально, а потому движет и изменяет его. Но невозможно, чтобы одно и то же в отношении одного и того же было одновременно и потенциально, и актуально; оно может быть таковым только в отношении различного. В самом деле, то, что является актуально горячим, не может быть одновременно потенциально горячим, но есть одновременно потенциально холодное. Следовательно, невозможно, чтобы нечто в одном отношении и одним и тем же образом было движущим и движимым, т. е. чтобы оно двигало само себя. Следовательно, все, что движется, должно быть движимо чем-то иным. А если то, благодаря чему нечто движется, [также] движимо, то и оно должно быть движимо чем-то иным, и то иное, [в свою очередь, тоже]. Но так не может продолжаться до бесконечности, поскольку тогда не было бы первого движущего, а следовательно, и какого-либо иного движущего, поскольку вторичные движущие движут лишь постольку, поскольку движимы первым движущим. Так посох движет [что-либо] лишь потому, что движим рукой. Следовательно, мы должны необходимо прийти к некоему первому движущему, которое не движимо ничем, а под ним все разумеют бога».
Знакомые аргументы? Фома Аквинский вслед за Аристотелем понимает движение как особую метафизическую силу физических изменений, у которой должен быть таинственный и важный источник. О доказательствах бытия бога у Фомы Аквинского говорится достаточно часто, но гораздо реже отмечается, что эти доказательства прямо заимствованы из Античности и целиком опираются на античную онтологию.
«Второй путь исходит из смыслового содержания действующей причины. В самом деле, в чувственно воспринимаемых вещах мы обнаруживаем порядок действующих причин, но мы не находим того (да это и невозможно), чтобы нечто было действующей причиной в отношении самого себя, поскольку в этом случае оно предшествовало бы себе, что невозможно. Но невозможно и то, чтобы [порядок] действующих причин уходил в бесконечность. Поскольку во всех упорядоченных [друг относительно друга] действующих причинах первое есть причина среднего, а среднее — причина последнего (неважно, одно это среднее или их много). Но при устранении причины, устраняется и ее следствие. Следовательно, если в [порядке] действующих причин не будет первого, не будет последнего и среднего. Но если [порядок] действующих причин уходит в бесконечность, то не будет первой действующей причины, а потому не будет и последнего следствия и средней действующей причины, что очевидным образом ложно. Следовательно, необходимо допускать некую первую действующую причину, которую все называют богом».
Перед нами аристотелевская метафизическая цепочка причин, которая не имеет никакого отношения к причинности, как мы понимаем ее сегодня. Нет никакой логической причины, по которой должна существовать подобная последовательность причин (прошу прощения за каламбур). Для современного эмпирического рассудка понятие «причина» — это только слово, при помощи которого мы упорядочиваем свой опыт. Метафизическая аристотелевская причинность и экспериментальная естественнонаучная причинность — совершенно разные предметы рассуждений, но полемисты в дискуссиях часто подменяют одно другим, когда заводят речи о том, в чем причина существования мира или человеческой жизни. Нельзя осмысленно сказать, что у существования мира или у человеческой жизни есть причина или нет причины.
«Третий путь исходит из [смыслового содержания] возможного и необходимого, и он таков. В самом деле, мы обнаруживаем среди вещей некие такие, которые могут как быть, так и не быть, поскольку мы обнаруживаем, что нечто возникает и разрушается и, соответственно, может как быть, так и не быть. Но невозможно, чтобы все, что является таковым, было всегда, поскольку то, что может не быть, иногда не есть. Если, следовательно, все может не быть, то когда-то в реальности не было ничего. Но если это истинно, то и сейчас не было бы ничего, поскольку то, чего нет, начинает быть только благодаря тому, что есть; если, следовательно, ничего сущего не было, то невозможно, чтобы нечто начало быть, а потому и сейчас не было бы ничего, что очевидным образом ложно. Следовательно, не все сущие являются возможными, но в реальности должно существовать нечто необходимое. Но все необходимое либо имеет причину своей необходимости в чем-то еще, либо нет. Но невозможно, чтобы [ряд] необходимых [сущих], имеющих причину своей необходимости [в чем-то еще], уходил в бесконечность, как это невозможно в случае действующих причин, что уже доказано. Следовательно, необходимо полагать нечто само-по-себе-необходимое, не имеющее причины необходимости в чем-то еще, но являющееся причиной необходимости прочего. И таковое все называют Богом».
Согласно этому доводу Фомы Аквинского бог необходим, чтобы существовало все то, что может либо существовать, либо не существовать. Как и причинность, такие понятия, как необходимость и существование, можно понимать в аристотелевском или платоновском смысле. Но Кант, например, указывал, что бытие не есть реальный предикат, и оно не сообщает ничего нового о вещи. Нельзя не заметить, что подобные проблемы порождаются только словоупотреблением и правилами языка: понимание того, что правила способов описания действительности, таких как язык или математика, не отражают что-то в самой действительности , сложилось в истории человеческой мысли далеко не сразу.
«Четвертый путь исходит из степеней [совершенств], обнаруживаемых в вещах. В самом деле, среди вещей обнаруживаются более и менее благие, истинные, благородные и т. д. Но „более“ и „менее“ сказывается о различных [вещах] в соответствии с их различной степенью приближения к тому, что является наибольшим. Так, „более горячим“ называется то, что более близко к наиболее горячему. Следовательно, существует нечто наиболее истинное, наилучшее и благороднейшее и, соответственно, в высшей степени сущее, ибо, как сказано во II книге „Метафизики“, то, что в высшей степени истинно, является в высшей степени сущим. Но то, что называется наибольшим в определенном роде, есть причина всего того, что относится к этому роду. Например, огонь, который есть наиболее горячее, есть причина всего горячего, как говорится в той же книге. Следовательно, существует нечто, являющееся причиной бытия всех сущих, а также их благости и всяческого совершенства. И таковое мы называем Богом».
Перед нами развитие платоновской и аристотелевской логики блага и истины, и вне правил употребления понятий, присущих античной метафизике, данное утверждение не имеет смысла. Как и в случае причины, существования и необходимости, понятия истины и совершенства здесь употребляются в данном случае своеобразно. Когда наука и аналитическая философия говорят об истине сегодня, они имеют в виду лишь истинность или ложность конкретных утверждений, но не «истину саму по себе». Утверждение о факте мы называем либо истинным, либо ложным. Рассуждение об истине самой по себе не имеет смысла (я употребляю слово «истина» только в риторических целях, анализ каждого высказывания быстро бы сделал публицистику невозможной).
Что же касается совершенства самого по себе, то аристотелевское употребление этого понятия аналогично платоновскому: совершенное или благое — это лишь оценочные термины. Говорить о совершенстве или несовершенстве самих по себе бессмысленно. Мы говорим, что предмет является «лучшим» или «худшим» — лишь для наших целей. Мы не можем сказать, например, что самолет Су-27 лучше самолета братьев Райт сам по себе: первый имеет параметры, которые позволяют нам быстрее или проще достигать какой-то определенной нами же цели. Но сами по себе перед нами только предметы, имеющие какие-то измеряемые параметры, и только. Оказывается, и платоновская идея совершенства, и идея прогресса у Кондорсе одинаково оценочно нагружены. Мысль о совершенстве скрывает простую человеческую заинтересованность в результате.
«Пятый путь исходит из управления вещами [универсума]. В самом деле, мы видим, что нечто, лишенное познавательной способности, а именно природные тела, действует ради цели, что очевидно из того, что они всегда или почти всегда действуют одним и тем же образом, так, что стремятся к тому, что является [для них] лучшим. Поэтому ясно, что они движутся к цели не случайно, но намеренно. Но то, что лишено познавательной способности, может стремиться к цели только в том случае, если оно направляемо кем-то познающим и мыслящим: так стрела [направляется в цель] лучником. Следовательно, существует нечто мыслящее, которым все природные вещи направляются к [своей] цели. И таковое мы называем Богом»42.
Как уже было сказано, нет ничего самоочевидного в том, как употребляется слово «цель» у Аристотеля, а вслед за ним и у Фомы Аквинского. Цель сама по себе — это опять же бессмыслица. Можно осмысленно говорить лишь о цели поведения определенного человека, о чем я скажу чуть дальше.
Фома Аквинский не получает какое-либо новое знание вообще, а лишь использует рассуждения Аристотеля. Причем, заметьте, Аквинский не доказывает тождество аристотелевской первопричины и христианского бога (в предпосылках не идет речь о боге), а лишь прибавляет это приравнивание к полученным на основании аристотелевских предпосылок выводам. В сущности, данные доказательства ни слова не говорят об Иисусе из Назарета или об иудейском Яхве, к примеру.
Первое и самое очевидное возражение против логики Аристотеля (и вслед за ним Фомы Аквинского), которое рождается у современного читателя, заключается в том, что подобное рассуждение «о причинах вещей» не имеет никакого отношения к причинности в привычном нам смысле. Мы привыкли говорить о причинности в естественно-научном смысле, как о ней говорил Дэвид Юм в «Трактате о человеческой природе». Причина некоторого события — это не таинственная сущность подобного события, а лишь другое событие, предшествовавшее первому событию во времени. Мы говорим о событиях как о причине и следствии, когда одно событие во всех наблюдаемых случаях происходит после другого. Сама «причинность как таковая» не дана нам эмпирически так, как даны конкретные предметы. Даже если мы наблюдаем связь между событиями, мы можем упускать из виду неизвестные нам факторы, вроде присутствия неизвестного нам катализатора или действия неизвестной силы. Позже Эрнст Мах в сочинении «Познание и заблуждение», рассматривая логику постановки обычных и мысленных экспериментов, развил мысль о биологическом значении способности человеческого мозга к нахождению постоянных связей между событиями. Это особенно важно для понимания разницы между научным экспериментом и суеверием: в случае суеверия люди (и животные!) связывают произвольно совпавшие во времени события (в науке о поведении это называется «голубиным суеверием»), а задачей хорошо поставленного эксперимента является исключение всех лишних факторов и повторяемость результатов.
Мы говорим, что эксперимент хорошо организован и продуман, если нам удается определить такой фактор, который во всех наших экспериментальных наблюдениях вызывает наступление определенных последствий, причем независимо от всех других факторов. Только тогда мы начинаем говорить о каузальности, или причинно-следственной связи (конечно, утверждение о причинно-следственной связи не может быть окончательно обосновано обобщением экспериментальных наблюдений, но об этом следует сказать отдельно). То же самое касается и здравого смысла обыденной жизни: причиной отравления является использование испорченной пищи, а причиной опьянения является употребление алкоголя.
Точно так же не соответствует нашему пониманию понятия «цель» и цель у Аристотеля, его телеология, убеждение в существовании цели всего сущего или каких-то происходящих в мире событий. Можно осмысленно говорить лишь о цели человеческого поведения, поскольку под целью мы понимаем желаемое и сформированное нашим мозгом представление о возможном будущем, построенное из элементов памяти о прошлом, а также интенции нашего мозга. Речь идет о воображении и о способностях мозга к постановке задач и планированию (способности, машинная реализация которых означала бы, по мысли Марвина Мински, создание искусственного интеллекта). Можно представить себе способ проверить в порядке бихевиористического эксперимента, может ли человек (человеческий мозг) решать те или иные поведенческие задачи. Утверждение же о том, что множество исторических событий, биологическая эволюция или астрофизические процессы имеют какую-то общую цель (в духе Гегеля или Маркса), является совершенно непроверяемым, лежащим за рамками любого мыслимого опыта. Скорее следовало бы признать, что это — художественный вымысел43, основанный на атрибуции человеческой способности к целеполаганию окружающей действительности. Обладает ли мяч целью самой по себе? Заключается ли цель мяча в том, чтобы быть круглым или в том, чтобы им играли в футбол? Сама подобная постановка вопроса — бессмыслица. По этой же причине глубоко бессмысленно говорить о целесообразности устройства животных, как иногда поступают христиане-креационисты, или о цели истории, как это делают марксисты.
Что же касается миссионерской риторики современных религиозных полемистов, то когда верующий смеется над мыслью о возникновении Вселенной без какой-либо причины, его риторический прием на самом деле довольно глуп и неглубок. Апологет зачастую даже не понимает происхождения своей собственной стратегии убеждения! Утверждение о том, что человеческая жизнь без высшей цели лишена достоинства, имеет довольно ненадежные демагогические основания: достаточно лишь спросить, что есть цель , и почему такая цель необходимым образом должна быть присуща любому предмету или существу? Поэтому глупо говорить о бесцельности человеческого существования. Человеческое существование, строго говоря, за рамками цели и бесцельности.
Но верующие люди спрашивают о цели человеческой жизни не просто так. Сами-то они вполне определились с тем, что считать целью своей жизни. В их воображении существует и миф о каком-то результате их ритуалов, и эмоциональная потребность в стремлении к такому воображаемому результату. Полагаю, что верующие видят причину существования окружающей их действительности в замысле воображаемого ими существа или предназначении судьбы, а целью своей жизни они считают характерный для их религиозной традиции вариант «восхождения» (пожелай кто-либо блеснуть цинизмом, он мог бы предположить, что цель иных проповедников — остаться гнить у обочины паломнического тракта).
Но почему это должно быть важным для нас? Если мы не видим ни малейшего смысла в самом логическом фундаменте религиозных воззрений, следует ли нам считаться с тем, что верующие люди считают моральным или духовным? Если религиозные убеждения для нас — не истина и даже не ложь, то религиозные цели для нас — абсурд. Заметьте, высшая цель религии — вовсе не благополучие общества и не конкретный правопорядок. Христиане или мусульмане вовсе не собираются защищать абстрактную «нравственность» общества, хотя то, что религия является источником и основанием морали в обществе, — зачастую один из главных аргументов сторонников религий (об этом придется сказать отдельно).
Высшие цели религий не имеют ничего общего с чисто прагматическими целями современного общества. Эти цели являются буквально потусторонними. Я не возражаю, если кто-то видит целью своей жизни созерцание чистых форм, какое-то Спасение или объединение с божественным Единым (есть даже люди, которые посвящают свою жизнь собиранию марок!). Но почему эта эзотерическая цель должна быть навязана и тем, кому безразличны перипетии метафизики?
Говоря о благе самом по себе или о прекрасном самом по себе, Платон имел в виду свои потребности, интересы и эстетические привычки. Говоря о причинности, Аристотель имел в виду собственные цели и представления о космосе и природе (а также этике, эстетике и политике). Проблема метафизической философии в том, что она превращает нечто частное и случайное в будто бы общее и необходимое, индивидуальные оценочные и эстетические суждения в категорические требования этики и эстетики, персональные политические или жизненные цели авторов в нечто космического порядка.
Проблема заключается в том, что постулаты космических масштабов, в свою очередь, могут служить замечательным оправданием любых конкретных действий, будь то преследование инакомыслящих вплоть до их уничтожения или уголовное преследование двадцатилетних девушек за совершенно невинное с уголовной точки зрения деяние — танец. На основании совершенно произвольных, как мы видим на примере Платона и Аристотеля, но категоричных и будто бы универсальных постулатов можно довести страну до опустошительного и беспрецедентного голода, подобного голоду в СССР 1932–1933 годов. Каждому хорошо известно утверждение Макиавелли: «цель оправдывает средства». Чем больше и многозначительнее цель, чем ближе она к универсальному «порядку мироздания» или «законам истории», тем более серьезные средства можно применить и оправдать именем такой цели. За мегаломанией скрывается обыкновенный фашизм. Кроме того, люди сами охотно готовы принимать на себя бремя тягот, если им внушить, будто у лишений есть высшая цель. Не обязательно объяснять массам, какова конкретная причинно-следственная связь между тяготами и результатом, можно подменить сколько-нибудь рациональное обоснование категорическими лозунгами о потребностях отчизны, нового социального строя или традиционной морали, которая, как это часто водится, в опасности.
В мире подобных демагогических манипуляций религия находит свое подлинное применение в качестве политического орудия. В сравнении с философами богословам свойственно упрощать аргументы и принимать множество сомнительных допущений в качестве само собой разумеющейся догмы. В случае богословия доводом в пользу истинности каждого отдельного утверждения будет уже не подробная, хотя и не вполне честная местами аргументация Платона, а прямые угрозы и категорическое внушение. По этой самой причине мы редко доходим в дискуссии о религии до ее самых глубинных оснований.
И именно поэтому я так подробно цитирую здесь Платона и Аристотеля. Их рассуждения нецелесообразно пересказывать, поскольку при кажущейся последовательности аргументов античным авторам свойственно принимать произвольные предпосылки, и подобные уловки надежнее и проще продемонстрировать. Тот, кто понимает античную философию и присущие ей логические проблемы, понимает и религию. «Государство» и «Метафизика» содержат логику, которой религия пользуется, но о которой никогда не говорит. Аргументация самых просвещенных апологетов начинается с введения в разговор неявных предпосылок, с которыми оппоненты таких апологетов непроизвольным образом соглашаются, что дает последним риторическое преимущество. Перед тем, как согласиться, что из научных данных проистекает мировоззрение, лишающее жизнь человека цели и унижающее человеческую природу, следует жестко спросить о том, что есть «цель», что есть «возвышенное» и что есть «низменное», а апологет не вправе уйти от ответа на такие вопросы при помощи аргумента о самоочевидности. В конце концов, Сократ открыто высмеивал беспомощность своих оппонентов-софистов, когда те вели себя как христиане.
Я убежден, что в трудах Платона и Аристотеля сформировано логическое и понятийное основание, делающее возможным разговор о религиозности. Выявить это основание — означает обнаружить в религиях то, что сами верующие не вполне понимают или не хотят понимать: зависимость религиозности от философской системы, которая имеет собственные очевидные изъяны . Крах догматического идеализма Античности и Нового времени означает и крах религии . Я говорю о свершившемся факте. Философия Платона или Аристотеля сегодня — это лишь содержимое архива. В сочинениях этих авторов и их последователей, таких как Рене Декарт или Бенедикт Спиноза, нет ничего, что было бы актуальным для современной научной, математической или философской мысли. Античная философия, схоластика или рационализм Нового времени — предметы, достойные изучения и рассмотрения, поскольку их история многое говорит нам об устройстве человеческой речи, логики и интеллекта. Но содержание этих философских систем более не играет никакой роли в спектакле современной мысли. Поэтому религия, привязанная к классической философии, потерпела интеллектуальный крах: она логически несовместима с эмпиризмом и методологией науки . Подчеркиваю: вопрос вовсе не о набившем оскомину «соотношении веры и знания». Вера не бесформенна. У нее есть конкретная логическая структура. О логической структуре веры можно говорить вполне определенно и однозначно. О структуре веры можно знать.
Разговор о качествах бога мог быть понят в античном обществе, которому было свойственно отвлеченное рассуждение об идеях, но в эпоху проблем достоверности данных и экспериментальной проверки какие-либо богословские утверждения не играют никакой роли в дискуссиях ученых или современных логиков. Да, религия может быть инструментом политики (как это происходит в современной России вопреки всякому здравому смыслу), но она уже не будет предметом интереса ведущих исследователей, как это было во времена схоластики или даже во времена Ньютона. Подавляющее большинство современных ученых — неверующие, безрелигиозные люди, причем они даже не отрицают религиозные суждения. Отрицание, как я уже говорил, — слишком сильная реакция, она здесь ни при чем. Для современной науки или современной аналитической философии содержание религиозных сюжетов — ничто. С точки зрения философа, история религии прекратилась. Таких людей, как Аристотель, Дионисий Ареопагит, Августин или Фома Аквинский, насколько бы ни была очевидна нам нищета их мысли, больше никогда не будет. В современном мире от религии остались только многозначительная литература и нечистоплотная политика. Классическая философия, метафизика и вслед за ней богословие мертвы.
Чтобы понять, почему и как это произошло, достаточно просто изучить историю эмпиризма, позитивизма и аналитической философии вкупе со становлением экспериментального, доказательного метода в естествознании.
***
Подведем итог первой части: религиозные идеи мыслимы и обсуждаются в рамках одной-единственной философской традиции. Это традиция, сформированная трудами Платона и Аристотеля, а также их учеников и последователей. Христианское богословие прямо наследует античности, о чем пишут Августин, Ориген и Фома Аквинский. Но логика античного философствования лежит не только в основании христианской теологии. Ее предпосылки в неявной форме присущи любому современному рассуждению о религии. Это не означает, что античная философия имеет исключительный или сверхъестественный характер, просто она наиболее полно и последовательно выразила предпосылки любых категоричных убеждений, в том числе религиозных: умозрительность, спекулятивность, превращение частного в общее, например частных человеческих представлений о благе или целях в якобы общезначимые. Платон ввел представление о благе самом по себе, идеалах, бессмертной душе, содержащей индивидуальность, достижении Восхождения, а Аристотель создал философский миф об энтелехии, целенаправленности происходящего в мире и существовании цепочки метафизических причин, присущих каждому предмету.
II. Вызов религии, брошенный Новым временем
Истина вредна только тем, кто обманывает людей, и всегда будет полезна всему прочему человечеству.
Поль Анри Гольбах. «Разоблаченное христианство»
Последовательный ряд философских сочинений Аристотеля, посвященных логике, к числу которых относятся «Категории», «Об истолковании», «Первая аналитика» и «Вторая аналитика» и «О софистических опровержениях», традиционно называется «Органон» (дословно — инструмент). Данные труды Аристотеля впервые берут в качестве предмета сами рассуждения как таковые. Так, в «Аналитиках» Аристотель ввел понятие силлогизма как единицы формальной логики.
Хотя проблемы логики как таковой не имеют прямого отношения к нашему разговору, однако спустя без малого две тысячи лет не столько Аристотелю, сколько всему догматизму и идеализму был брошен вызов, имя которому по аналогии с собирательным наименованием аристотелевских трудов — «Новый Органон».
1. Против догматизма. Методы науки по Фрэнсису Бэкону
Речь, конечно же, о сочинении лорда Фрэнсиса Бэкона, английского философа, одного из наиболее известных основоположников эмпиризма. «Новый Органон» — это буквальный вызов и манифест одновременно: вот вам новый в сравнении с формальной логикой и схоластикой инструмент. Новым инструментом в данном случае является эксперимент. Эксперимент — это способ преодоления умозрительных заблуждений.
«Наш же способ столь же легок в высказывании, сколь труден в деле. Ибо он состоит в том, что мы устанавливаем степени достоверности, рассматривая чувство в его собственных пределах и по большей части отбрасывая ту работу ума, которая следует за чувством, а затем открываем и прокладываем разуму новый и достоверный путь от самых восприятий чувств. Без сомнения, это понимали и те, кто такое же значение придавал диалектике. Отсюда ясно, почему они искали помощи разуму, относясь с подозрением к прирожденному и самопроизвольному движению ума. Но слишком поздно прилагать это средство, когда дело уже загублено: после того как ум уже пленен привязанностями повседневной жизни, ложными слухами и учениями, когда он осажден пустейшими идолами»44.
Бэкон противопоставляет классическую философию, которая не приносит практической пользы, и полезное естествознание. Разум без опыта Бэкон сравнивает с рукой, не вооруженной инструментом, а античные рассуждения называет не обремененным требованиями достоверности полетом воображения. Второе название книги, «Великое восстановление наук», объясняется тем, что Бэкон понимает науки отличным от современного образом, как все множество интеллектуальных занятий, включая философию и алхимию. Именно поэтому он и говорит о кризисе наук в целом: они получают слишком мало нового знания и приносят слишком мало практической пользы.
Помните, Аристотель мог соблюдать изложенные им формальные правила построения рассуждений, но если его первоначальные предпосылки никуда не годились, то не были годными и дедуктивные выводы. Именно поэтому Фрэнсис Бэкон противопоставил силлогизм и научную индукцию:
«Силлогизмы состоят из предложений, предложения из слов, а слова суть знаки понятий. Поэтому если сами понятия, составляя основу всего, спутаны и необдуманно отвлечены от вещей, то нет ничего прочного в том, что построено на них. Поэтому единственная надежда — в истинной индукции»45.
Индукция — это то, что обычно называют переходом от частного к общему, и в этом она противоположна дедукции, то есть получению выводов на основании силлогизмов, от общего к частному. Проще говоря, речь о получении общего знания на основании обобщения единичных данных. Индукция — это метод естественной науки (по крайней мере, так казалось людям до Поппера). То, что у индукции нет строгих правил, и обобщения фактов недостаточно для обоснования теории, — отдельная проблема, которая станет актуальной лишь в XX веке.
Главная проблема классической философии заключается в том, что она без необходимости утверждает слишком многое. Идеи, благо, справедливость, «человеческий разум в силу своей склонности легко предполагает в вещах больше порядка и единообразия, чем их находит».
Бэкона беспокоят причины, по которым его современники и философы античности так часто и так однообразно ошибались. Он рассказывает об этих причинах, перечислив четыре, как он их назвал, «идола»46: это источники заблуждений, мешающие познанию.
Четыре знаменитых идола Бэкона, вот они:
«Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде людей, ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде».
Причиной первого типа заблуждений, таким образом, является человеческая природа. Очевидно, что чувства могут быть обманчивы, еще Платон и Аристотель выдвигали чувствам такие претензии. Но претензии к уму человека — нечто немыслимое для Античности. Вспомните, Платон считал созерцание чистых идей восхождением над человеческой природой до уровня богов, а Аристотель полагал первопричиной мира совершенный интеллект. Результат такого «человеческого, слишком человеческого» заблуждения — антропоцентризм, то соотнесение всего окружающего мира с параметрами человеческой природы. Вместе с аристотелевской телеологией, то есть учением о целесообразности действительности, антропоцентризм порождает так называемый антропный принцип, который до смешного глуп: будто бы Вселенная устроена таким образом, чтобы в ней существовал человек, и в этом нетрудно разглядеть замысел. Легко убедиться, что людям приходится приспосабливаться к действительности, и даже человеческое прямохождение, речь, координация движений рук и способности мозга, которые мы называем интеллектом, — являются способами приспособления к окружающей среде. В конце концов человеку приходится изготавливать орудия и одежду, чтобы выжить. Но задумайтесь об идее замысла, и вы быстро обнаружите, что мы приписываем окружающему миру свои собственные интенции. Это наша природа, и только она вынуждает нас видеть проявление злой воли в предметах и обстоятельствах и разумное намерение в последовательности событий, ведь «воля» и «намерение» — лишь слова, которыми мы описываем часть себя.
«Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их души предвзятые и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные, или по другим причинам. Так что дух человека, смотря по тому, как он расположен у отдельных людей, есть вещь переменчивая, неустойчивая и как бы случайная. Вот почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, а не в большом или общем мире».
Разумеется, это аллюзия к платоновской пещере, но в данном случае причиной заблуждений является не подобие материального мира теням, а индивидуальные особенности человека, натура и воспитание. Верующие зачастую предельно категорично утверждают, что они разделяют убеждения огромного количества людей, живших на протяжении тысячелетий. Будто бы любое возражение против веры есть возражение против всего этого полчища ныне отошедших во прах. Но именно сам верующий и только он один, самостоятельно и лишь в силу своих умственных способностей делает выводы об историческом величии и о массовости какого-либо мифа. Именно верующий человек, и только он сам, принимает решение доверять тем или иным религиозным ораторам.
«Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей, идолами площади . Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям».
Платон не различал понятия, существующие в языке, и реальность. Пифагор считал цифры существующими в особой форме подобно вещам. Средство описания, которое мы используем, может быть источником ошибок. Значительная часть проблем классической философии — это злоупотребление языком, и дело здесь не только в простых ошибках. Есть удивительные примеры из филологии, когда последовательность бессмысленных выдуманных слов кажется нам предложением, имеющим сказуемое и подлежащее (примеры Людмилы Петрушевской: бутявки и калушата). Но что еще более важно, не все правильно построенные предложения имеют смысл. Бог есть любовь — пример подобного предложения.
«…тягостнее всех идолы площади, которые проникают в разум вместе со словами и именами. Люди верят, что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу против разума. Это сделало науки и философию софистическими и бездейственными. Большая же часть слов имеет своим источником обычное мнение и разделяет вещи в границах, наиболее очевидных для разума толпы. Когда же более острый разум и прилежное наблюдение хотят пересмотреть эти границы, чтобы они более соответствовали природе, слова становятся помехой. Отсюда и получается, что громкие и торжественные диспуты ученых часто превращаются в споры относительно слов и имен, а благоразумнее было бы (согласно обычаю и мудрости математиков) с них и начать, для того чтобы посредством определений привести их в порядок. Однако и такие определения вещей, природных и материальных, не могут исцелить этот недуг, ибо и сами определения состоят из слов, а слова рождают слова, так что было бы необходимо дойти до частных примеров, их рядов и порядка, как я скоро и скажу, когда перейду к способу и пути установления понятий и аксиом.
Идолы, которые навязываются разуму словами, бывают двух родов. Одни — имена несуществующих вещей (ведь подобно тому как бывают вещи, у которых нет имени, потому что их не замечают, так бывают и имена, за которыми нет вещей, ибо они выражают вымысел); другие — имена существующих вещей, но неясные, плохо определенные и необдуманно и необъективно отвлеченные от вещей. Имена первого рода: „судьба“, „перводвигатель“, „круги планет“, „элемент огня“ и другие выдумки такого же рода, которые проистекают из пустых и ложных теорий. Этот род идолов отбрасывается легче, ибо для их искоренения достаточно постоянного опровержения и устаревания теорий.
Но другой род сложен и глубоко укоренился. Это тот, который происходит из плохих и неумелых абстракций. Для примера возьмем какое-либо слово — хотя бы „влажность“ — и посмотрим, согласуются ли между собой различные случаи, обозначаемые этим словом. Окажется, что слово „влажность“ есть не что иное, как смутное обозначение различных действий, которые не допускают никакого объединения или сведения. Оно обозначает и то, что легко распространяется вокруг другого тела; и то, что само по себе не имеет устойчивости; и то, что движется во все стороны; и то, что легко разделяется и рассеивается; и то, что легко соединяется и собирается; и то, что легко течет и приходит в движение; и то, что легко примыкает к другим телам и их увлажняет; и то, что легко обращается в жидкое или тает, если перед тем пребывало твердым. Поэтому, если возникает вопрос о применимости этого слова, то, взяв одно определение, получаем, что пламя влажно, а взяв другое — что воздух не влажен. При одном — мелкая пыль влажна, при другом — стекло влажно. И так становится вполне ясным, что это понятие необдуманно отвлечено только от воды и от обычных жидкостей без какой бы то ни было должной проверки»47.
Перед нами практически логика аналитической философии в работах Карнапа или Айера. Это очень простая, но важная мысль: иногда следует разобраться, по поводу чего и в каких конкретно условиях делаются те или иные утверждения, и как переформулировать их так, чтобы обнаружить настоящее значение сказанного. Подобный анализ может внести большую ясность, разрешить какие-то проблемы, которые порождены нашим же словоупотреблением. Конечно, Платон, рассуждающий о справедливости самой по себе, — это замечательный пример внесения большой путаницы по незначительному поводу.
«Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем идолами театра , ибо мы считаем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры. Мы говорим это не только о философских системах, которые существуют сейчас или существовали некогда, так как сказки такого рода могли бы быть сложены и составлены во множестве; ведь вообще у весьма различных ошибок бывают почти одни и те же причины. При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности. Однако о каждом из этих родов идолов следует более подробно и определенно сказать в отдельности, дабы предостеречь разум человека».
Это прямой бэконовский выпад против Античности. Думаю, на данном этапе уже понятно, что не устраивало Фрэнсиса Бэкона в философии Платона или Аристотеля: разговоры о душе, благе и первоначале — это просто мифы, ничем не отличающиеся от мифов об андрогинах или Атлантиде. Но богословские схемы христианской патристики еще более скверны в этом отношении, чем платонизм. Трудно отделаться от впечатления, что Платон рассказывал о буквально окрыляющейся душе, колесницах богов, удивительных камнях «на берегу неба» или двуполых перволюдях не без иронии (Сократ вообще кажется довольно ироническим персонажем). Эти философские мифы можно рассматривать как иллюстрации, как иносказание, как аллегорию. Не нужно верить в существование Атлантиды, чтобы понять платоновские убеждения о морали и справедливости.
Однако религии далеко не так самокритичны и требуют дословного восприятия самых абсурдных своих мифов, вроде евхаристии — ритуала христианского причастия, которое с точки зрения католицизма и православия есть буквальное поедание человеческого мяса и крови (это изумительное свойство христианства подчеркивал неоплатоник и ученик Плотина Порфирий). Нельзя быть христианином, не веря буквально в двойственную антиномическую природу основателя этой традиции.
Но сам Бэкон был не готов к тому, что спустя сотню лет проделал Вольтер, крикнув о христианской церкви: раздавить гадину! Впрочем, для целей данного разговора не имеют значения ни вежливость первого, ни грубость второго. Содержание религиозных мифов — не предмет для чувств, а клерикализм слишком скучен, чтобы в который раз заслужить критику. Философская сторона проблемы, отношение спекуляции и достоверного знания, более значима, чем простой антиклерикализм в духе наиболее конфликтных публицистов эпохи Просвещения. Политические аргументы против безумных социальных систем вроде нацизма или большевизма или против религиозного фундаментализма могут быть парированы категоричной демагогией: духовенство или члены злокачественной партии могут обвинить своих оппонентов во всевозможных изъянах, умственной неполноценности, ангажированности, аморальности и отсутствии патриотизма (главный их демагогический аргумент). Спорить по вопросам чистой логики несравненно сложнее. И если отдельные политические меры еще могут быть предметом рациональной дискуссии, то разговор о мифе всегда будет сопровождаться скандалом. Позиции политических или коммерческих «духовников» всегда будут нечестными и беспомощными перед лицом точного знания.
Логический порок религии врожденный, он более важен, чем история существования религиозных организаций со всеми их зверствами (давайте не будем лицемерить и назовем все своими именами). Этот порок нельзя оправдать, его нельзя категорично отрицать, как отрицают инквизицию, холокост, терроризм или голодомор, за него нельзя извиниться. И именно для того, чтобы ухватить суть этого порока, я начал разговор с вопросов философии, а не собственно религии. Новое время начиная в лице Бэкона вынесло этому пороку простой приговор. Эмпиризм и вслед за ним естествознание, позитивизм и аналитика убили и разорили метафизику.
«Человеческий ум по природе своей устремлен на абстрактное и текучее, мыслит как постоянное. Но лучше рассекать природу на части, чем абстрагироваться. Это делала школа Демокрита, которая глубже, чем другие, проникла в природу. Следует больше изучать материю, ее внутреннее состояние и изменение состояния, чистое действие и закон действия или движения, ибо формы суть выдумки человеческой души , если только не называть формами эти законы действия»48.
Вообще, идолы языка (площади) и идолы плохих теорий (театра) на самом деле представляют собой единую проблему, которая и является ядром всего нашего разговора. Плохой язык и порождает плохую теорию. Вот что говорит Бэкон об авторе «Метафизики» (школу которого он называет софистической):
«…Аристотель, который своей диалектикой испортил естественную философию, так как построил мир из категорий и приписал человеческой душе, благороднейшей субстанции, род устремления второго порядка; действие плотности и разреженности, посредством которых тела получают большие и меньшие размеры или протяженность, он определил безжизненным различием акта и потенции; он утверждал, что каждое тело имеет свое собственное единственное движение, если же тело участвует в другом движении, то источник этого движения находится в другом теле; и неисчислимо много другого приписал природе по своему произволу. Он всегда больше заботился о том, чтобы иметь на все ответ, словами высказать что-либо положительное, чем о внутренней истине вещей…
В физике же Аристотеля нет ничего другого, кроме звучания диалектических слов. В своей метафизике он это вновь повторил под более торжественным названием, будто бы желая разбирать вещи, а не слова»49.
Впрочем, при всем его пафосе против классиков Бэкон довольно осторожно, как политик, отзывается о богословии: «…из безрассудного смешения божественного и человеческого выводится не только фантастическая философия, но и еретическая религия. Поэтому спасительно будет, если трезвый ум отдаст вере лишь то, что ей принадлежит». Я глубоко убежден, что каждый раз, когда, несмотря на всю научную аргументацию, религии отводится ее ниша, это означает лишь политический жест. Вместо богословов достается античным авторам, за кого уже не вступятся короли и духовенство.
«Поэтому название „софисты“, которое те, кто хотел считаться философами, пренебрежительно прилагали к древним риторам — Горгию, Протагору, Гиппию, Полу, подходит и ко всему роду — к Платону, Аристотелю, Зенону, Эпикуру, Теофрасту и к их преемникам — Хризиппу, Карнеаду и остальным. Разница была лишь в том, что первый род софистов был бродячий и наемный: они проходили по городам, выставляли напоказ свою мудрость и требовали платы; другой же род софистов был более респектабелен и благороден, ибо он состоял из тех, кто имел постоянное жительство, кто открывал школы и даром поучал своей философии»50.
Эти слова далеко не так невинны по отношению к вере. Если вы видите связь между античными метафизиками и богословием так же, как ее вижу я, вы понимаете, что нельзя одно критиковать отдельно от второго. У богословия и классической философии общие проблемы. Эта проблема в том, что умозрительные суждения прямо противоположны конкретному экспериментальному знанию. Знание приносит нам плоды, а для Бэкона важны были плоды наук. Впрочем, для нас сегодня плоды наук важны несравненно больше, чем для него. Мы знаем, что научное знание изменяет мир, а умозрительное спекулятивное рассуждение не приводит ни к чему.
Наука создала тот мир, в котором мы живем. Ей нет альтернативы. Самый безудержный режим и самая безумная теократия нашего мира, Северная Корея и Иран, делают ставку на разработку оружия массового поражения, и изделие либо работает, либо нет. С эйдосами и категориями все не так.
Проблема не в философии вообще. Философия — это логика, основы математики, метод экспериментов, анализ норм права, дедукция и индукция, анализ и синтез. Самые выдающиеся ученые и математики XX века занимались философией: Тарский и Шредингер, Фейнман и Гильберт. Проблема конкретно в спекуляциях и в метафизике. Но я полагаю, наш мозг и наша культура не могли сразу начать производить принципы научного метода, и вся метафизика мира была своего рода издержкой на пути взросления интеллекта нашего вида. Мы действовали методом перебора, и вся история нашей цивилизации — лишь большой комбинаторный процесс, в котором поверхностные мысли о социальной инженерии на основе кабинетных философских обобщений приводили к социальным катастрофам и давали власть над народами преступникам вроде Иосифа Джугашвили или Пол Пота, а поступательные поиски конкретной истины отправили космические зонды за пределы Солнечной системы.
Однако во времена Фрэнсиса Бэкона современной науки еще нет. Бэкон говорит о науках, но имеет в виду и античную философию, и медицину XVII века, и даже спекуляции алхимиков. Еще один довод в пользу того, что без целенаправленных философских интеллектуальных поисков, которые позволили отделить целительство от доказательной медицины, а алхимию от химии, науки не было бы. Бэкон постоянно повторяется о том, что даже практики его времени, такие как врачи, подвержены влиянию мнения большинства и предрассудков. Медицина XVII века, конечно, — не медицина XXI века, хотя даже сегодня методы медицины бывают проблемными при всем их совершенстве: особенно точные и избирательные эксперименты не поставишь по очевидным этическим проблемам, а иные темы исследований вроде соотношения расовой принадлежности и интеллектуальных способностей до сих табу.
Когда я читаю Бэкона, меня удивляет его пессимизм. Подумайте только, мы живем в эпоху наиболее высоких достижений человеческой науки, но просто не замечаем этого. Дело далеко не в мобильных устройствах с сенсорными экранами или данных об экзопланетах, мы элементарно не умираем от скарлатины. Бэкон видел три коротких исторических периода расцвета наук, в Греции, в Риме и в современной ему Западной Европе (последний он тоже называл коротким), причем он постоянно сетовал на несовершенство современных ему наук и на идолы, мешающие разуму. Мог ли Бэкон предвидеть масштабную индустриализацию XIX века? Серию научно-технических революций? Конвейерное производство, ядерное оружие, электронику и трансгуманизм? Задумайтесь, как изменился наш мир всего за несколько столетий, и как изменилась сама наука .
Бэкон под естественной философией понимал естественные науки, философию и паранауку. «Античную науку» он критиковал за то, что она была направлена преимущественно на моральные вопросы. Тот новый метод, который он пытается формализовать, представляет собой обычный эксперимент, в значительной степени очищенный от метафизических предрассудков. Но даже для ученых того времени это было немало. Современник Бэкона Рене Декарт помимо математики и философии увлекался алхимией. Спустя столетие Исаак Ньютон был неоплатоником и искал вечные законы природы. Это довольно странно для современных естественных наук, ведь то, что мы называем «законом природы» (в силу традиции), является нашим теоретическим обобщением, и только.
Суммировать роль Фрэнсиса Бэкона просто. Он поставил важные вопросы, хотя не решил их. Бэкона можно назвать популяризатором естествознания, при том, что ученым он не был. Его конкретные достижения, которые важны для нас, — это мысль о том, что дедукция и категорический силлогизм Аристотеля не обязательно позволяют получить истинное знание (иначе не было бы проблемы метафизики). Сам язык может быть источником заблуждений (некоторые понятия ничего не означают). Бэкон заговорил об индукции и экспериментальном научном методе, как об альтернативе классике. Мысль Бэкона о фундаментальном, логическом различии науки и метафизики предельно важна (хотя индукция, как потом окажется, не позволяет обосновать это различие окончательно). К каким бы ходам ни прибегали в своей полемике апологеты религий, факт того, что религия не имеет ничего общего с эмпирическим знанием, для них есть непреодолимый вызов. Религия навсегда осталась в Античности. Нельзя реформировать религию таким образом, чтобы привести в соответствие с науками, которым мы так обязаны. Одна эта простая мысль достаточна, чтобы закрыть любое размышление о возможности истинности религии: религиозный миф вообще вне истинности. Сколько бы ни спорили о нем, мы не получим в результате никакого нового знания.
Именно становление эмпиризма, манифестом которого стало сочинение Фрэнсиса Бэкона, породило Просвещение XVIII века, а Просвещение — это уже всеми нами любимые радикальные атеисты и антиклерикалы, а также прочие коварные иллюминаты. Но энциклопедисты были скорее публицистами, чем фундаментальными философами. Они просто вслух экстраполировали выводы Фрэнсиса Бэкона, Дэвида Юма и Джона Локка на богословие и религиозность.
Вольтер и Гольбах стали теми, кем они стали, благодаря становлению естественно-научного метода и закату метафизики.
2. Против бесплодного поиска Первопричин. Причины и следствия в науке по Дэвиду Юму
Итак, прямая противоположность метафизике — эмпиризм. Но Бэкон высказал лишь общие возражения против догматизма, и следует показать, в чем именно, в каких конкретных утверждениях философский догматизм Античности, который целиком переняло религиозное мировоззрение, противоречит нашим сегодняшним принципам познания. А поскольку речь зашла о представлении о причинности у Аристотеля, просто необходимо рассказать о том, что противопоставил учителю Александра Македонского один из самых выдающихся философов-эмпириков Нового времени Дэвид Юм в его работе «Исследование о человеческом познании». Юм сформулировал совершенно противоположное аристотелевскому представление о причинности, не метафизическое, но научное! Что еще более важно, именно этим пониманием причинности пользуемся мы каждый день в своей обыденной жизни. Это предельно важно для нашего разговора о религии: когда религиозный человек риторически вопрошает о том, какова причина происходящих в его жизни событий, он на самом деле не интересуется тем, какие конкретные события определили его сегодняшний день. Какая ему разница, что проблемы со здоровьем были вызваны вредными привычками и нежеланием заниматься спортом? Подобный буквальный и прямолинейный ответ слишком банален (но требует решительно изменить свою жизнь на деле). Вместо этого религиозный человек желает услышать или придумать поучительную историю, которая бы замысловатым образом связала бы его злоключения с какими-то отдаленными событиями его прошлого, с некими проступками, с воображаемой волей божественных или демонических сил, с чем-то мелодраматичным и интересным. «Будто бы цель обстоятельств моей судьбы — научить меня чему-то». Подобная ситуация — иллюстрация противоположности метафизического и научного понимания самой причинности, воплощенных соответственно у Аристотеля и Юма.
«Однако темноту глубокой и абстрактной философии осуждают не только за то, что она тяжела и утомительна, но и за то, что она является неизбежным источником неуверенности и заблуждений. И действительно, самое справедливое и согласное с истиной возражение против большей части метафизики заключается в том, что она, собственно говоря, не наука и что ее порождают или бесплодные усилия человеческого тщеславия, стремящегося проникнуть в предметы, совершенно недоступные познанию, или же уловки общераспространенных суеверий, которые, не будучи в состоянии защищаться открыто, воздвигают этот хитросплетенный терновник для прикрытия и защиты своей немощи»51.
В своей работе Дэвид Юм превосходно описывает устройство того, что мы называем человеческим мышлением или работой ума: это комбинаторика опытных данных, то есть содержимого памяти.
«На первый взгляд ничто не кажется более свободным от ограничений, чем человеческая мысль, которая не только не подчиняется власти и авторитету людей, но даже не может быть удержана в пределах природы и действительности. Создавать чудовища и соединять самые несовместимые формы и образы воображению не труднее, чем представлять (conceive) самые естественные и знакомые объекты. Тело приковано к одной планете, по которой оно передвигается еле-еле, с напряжением и усилиями, мысль же может в одно мгновение перенести нас в самые отдаленные области Вселенной или даже за ее границы, в беспредельный хаос, где природа, согласно нашему предположению, пребывает в полном беспорядке. Никогда не виденное и не слышанное все же может быть представлено; ничто не выходит за пределы могущества мысли, кроме того, что заключает в себе безусловное противоречие.
Но хотя наша мысль, по-видимому, обладает безграничной свободой, при более близком рассмотрении мы обнаружим, что она в действительности ограничена очень тесными пределами и что вся творческая сила ума сводится лишь к способности соединять, перемещать, увеличивать или уменьшать материал, доставляемый нам чувствами и опытом. Думая о золотой горе, мы только соединяем две совместимые друг с другом идеи золота и горы, которые и раньше были нам известны. Мы можем представить себе добродетельную лошадь, потому что на основании собственного переживания способны представить себе добродетель и можем присоединить это представление к фигуре и образу лошади — животного, хорошо нам известного. Словом, весь материал мышления доставляется нам внешними или внутренними чувствами, и только смешение или соединение его есть дело ума и воли. Или, выражаясь философским языком, все наши идеи, т. е. более слабые восприятия, суть копии наших впечатлений, т. е. более живых восприятий»52.
В сущности, ни Платон, ни отцы христианской церкви не получали при помощи умозрения новое знание. Говоря об идеях, они имели в виду вполне конкретные предметы:
«…анализируя наши мысли, или идеи, как бы сложны или возвышенны они ни были, мы всегда находим, что они сводятся к простым идеям, скопированным с какого-нибудь предыдущего ощущения или чувствования (feeling or sentiment). Даже те идеи, которые кажутся нам на первый взгляд наиболее далекими от такого источника, при ближайшем рассмотрении оказываются проистекающими из него. Идея Бога как бесконечно разумного, мудрого и доброго существа порождается размышлением над операциями нашего собственного ума и безграничным усилением качеств доброты и мудрости. Мы можем вести наше исследование до каких угодно пределов и при этом всегда обнаружим, что каждая рассматриваемая нами идея скопирована с впечатления, на которое она похожа»53.
Юм совершенно убежден, что все то, что мы называем содержанием мышления, представляет собой комбинаторику чувственных данных. О проблеме врожденного или приобретенного характера идей, которая так занимала раннего эмпирика Локка, Юм замечает, что идеи у первого понимаются слишком общо, включая аффекты. Очевидно, что нельзя назвать приобретенными агрессию или половое влечение. Это значит для нас сегодня, что существуют особенности мозга, которые определены наследственностью, имеют эволюционное происхождение и которые, в свою очередь, предопределяют то, каким образом наш мозг оперирует чувственными данными и памятью. Нет ничего удивительного в факте врожденного и универсального для всех людей без исключения характера некоторых реакций, вроде безусловного коленного рефлекса. Такими же предопределенными могут быть некоторые реакции мозга и даже принципы, по которым мозг связывает приобретенную информацию .
Здесь я хотел бы специально подчеркнуть для людей, получивших представление о философии в советской традиции: Дэвида Юма невозможно вписать в таблицу разновидностей «материализма» и «идеализма», которую зубрили в советских вузах. Когда Юм говорит об идеях, он имеет в виду не самостоятельное существование идей в реальности идей, как это делал Платон. Под идеями Юм понимает вполне материальное содержимое памяти. Шагнув дальше, мы можем сказать, что речь идет об организации мозга. Дэвид Юм в своей работе занимается эпистемологией, то есть вопросами теории познания, а не онтологией, то есть вненаучным рассуждением о метафизическом устройстве реальности. Это может ускользать от внимания людей, слабо знакомых с философией, но некритично относящихся к марксизму и большевизму. Забегая вперед, скажу, что Карл Маркс был чистым гегельянским метафизиком, рассуждавшим о законах истории самих по себе и диалектике тезисов и антитезисов, не менее причудливой, чем причины Аристотеля. Работы Маркса никогда не имели отношения к науке.
Но еще меньшее отношение к науке имели чисто идеологические конструкции советской «материалистической» традиции. Советский «материализм» представляет собой метафизику, поскольку опирается на рассуждения о «материи самой по себе» Людвига Фейербаха, что ближе Платону или Спинозе с его субстанцией, чем к физике, в которой материя — это конкретные частицы, имеющие массу покоя. В силу этого критерия поле в физике не является материей, но это совершенно не означает, что электромагнетизм имеет какое-либо отношение к «идеализму» или «действию духов» (впрочем, от уродливого политического режима, отрицавшего законы наследственности и генетику целиком (дело Вавилова) в пользу кабинетного философствования XIX века и псевдонауки Лысенко, можно ожидать любых, самых безумных выводов). Вся проблема здесь только в понятийном аппарате, и уже на уровне понятийного аппарата марксизм имеет не большее отношение к естествознанию, чем теология. Разгадка проста: современная наука — это эмпиризм Юма и Маха в сочетании с атомизмом Левкиппа и Демокрита, а данные о полях и частицах получаются на основании экспериментальных данных, а не отвлеченных рассуждений Маркса «о материи и идеях». Показательна история знаменитой работы Владимира Ульянова «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». В своей работе Владимир Ульянов утверждает, что Маху свойственно убеждение, что «мир существует лишь в нашем сознании», а суть материализма заключается в том, что «материальные предметы существуют независимо от нашего сознания, сами по себе». На самом деле Эрнст Мах никогда не утверждал, что существует лишь человеческое сознание, а мир является продуктом воображения. Напротив, в работе «Познание и заблуждение» Мах прямым текстом сводит мыслительную деятельность к работе головного мозга, а интеллектуальные способности человека к условным рефлексам, в связи с чем ссылается на многочисленные медицинские исследования своего времени. Что же ввело одиозного предводителя петроградского переворота в заблуждение? Мысль Маха заключается в том, что любую информацию о действительности мы получаем благодаря органам чувств, что совершенно логично и очевидно. Соответственно, все наши предложения о фактах и закономерностях окружающего мира описывают лишь наши опытные данные либо предсказывают новые опытные данные. В этом суть научного метода (Мах — один из наиболее выдающихся физиков рубежа XIX–XX веков)! Эрнст Мах писал в своих трудах об эпистемологии (методе науки), а Владимир Ульянов писал в своей работе об онтологии (об устройстве действительности). Развивая логику Маха, можно сказать, что утверждение о том, что «вещи существуют помимо нашего сознания», настолько же бессмысленно, как и утверждение о том, что «вещи существуют только в нашем сознании» (оба ответа даны на бессмысленный вопрос). И в этом Ленин встает не на позиции ученых, а на позиции Иммануила Канта с его рассуждениями «о вещах самих по себе» (о ноуменах в противовес феноменам). Но в своей критике Канта Мах указывает, что само рассуждение «о вещах самих по себе» не имеет под собой никакого опытного основания. Воображаем ли мы, что вещи на самом деле отличаются от того, «что нам кажется», или же что вещи «пропадают» «из реальности», стоит нам отвернуться — это в равной степени праздный вымысел. У нас нет никаких оснований говорить о «кажущемся» и «подлинном» (что есть это апофатическое «подлинное» само по себе?), мы можем судить лишь о данных и условиях получения данных, где условия получения данных — единственный источник информации о возможных искажениях, например об оптических иллюзиях. Мы знаем лишь о том, что видим и можем описать. Известен знаменитый юридический анекдот: когда студентам-юристам женского пола описали гипотетическую ситуацию, в которой их клиент спрятала в стол зеленую шкатулку, стоило только ее мужу войти в комнату, и попросили ответить на вопрос о том, что было спрятано, те дали множество самых разных ответов, от бумаг государственной тайны до фотографии любовника. Все студенты-юристы мужского пола дали один-единственный ответ: их клиент спрятала зеленую шкатулку . В этом анекдоте суть и естественной науки, и криминалистики.
С понятием истины в советской философии тоже беда, поскольку в так называемой ленинской теории отражения «отражение» признавалось не определенным отношением54, которое возникало между знанием и познаваемым миром (истинность утверждения), а свойством материи, присущим всем ее уровням (В.И. Ленин, А.М. Коршунов, Б.С. Украинцев, А.Д. Урсул)55. В этом теория отражения напоминает даже не аристотелизм, в котором истина не существует в вещах, а является продуктом мысли, который возникает при связывании субъекта и предиката в высказываниях, а скорее платонизм с его подлинным бытием. Истинность в теории «отражения» — вопрос «конкретности истины», а конкретность — это «диалектическая абстрактность», которая «соединяет в себе единичное и всеобщее» (Т. Павлов, Т.К. Никольская)56. Вот существо позиции Ленина по вопросу об истине: истинность — это конкретность, конкретность — это абстрактность, вот и все «отражение». Вывод: философские основания большевизма — простая демагогия.
Но вернемся в Дэвиду Юму, из-за которого нам пришлось завести разговор о советском преломлении марксизма. Самым важным для Юма являются закономерности, в соответствии с которыми мозг связывает содержимое памяти. Он называет их: это сходство, смежность в пространстве и времени и, наконец, причинность: «Портрет естественно переносит наши мысли к оригиналу (сходство); упоминание об одном помещении в некотором здании естественно ведет к вопросу или разговору о других (смежность), а думая о ране, мы едва ли можем удержаться от мысли о следующей за ней боли (причинность)»57.
Дэвид Юм разделяет «отношения между идеями» (математическую и геометрическую истину) и фактами. О природе математического знания нужно говорить отдельно, чтобы в конце концов прийти к пониманию математики как исключительно средства описания, внутренние правила которого постулируются и ничего не говорят о фактах эмпирической действительности. Что же касается фактов, то Юм говорит, что «все заключения о фактах основаны, по-видимому, на отношении причины и действия. Лишь с помощью этого отношения можем мы выходить за пределы свидетельств нашей памяти и чувств… Все наши заключения относительно фактов однородны: в них мы постоянно предполагаем, что существует связь между наличным фактом и фактом, о котором мы заключаем на основании первого; если бы ничто не связывало эти факты, наше заключение было бы совершенно ненадежно»58.
Таким образом, по мысли Юма, природа очевидности, то есть эмпирическая истина — это вопрос причин и действий. А причины и действия представляют собой события, которые связывает наш мозг. Подобная постановка вопроса об истине об окружающей действительности совершенно не похожа на догматическую античную философию с ее подлинным бытием и формальными причинами.
«Я решаюсь выдвинуть в качестве общего положения, не допускающего исключений, то, что знание отношения причинности отнюдь не приобретается путем априорных заключений, но проистекает всецело из опыта, когда мы замечаем, что отдельные объекты постоянно соединяются друг с другом… Ни один объект не проявляет в своих доступных чувствам качествах ни причин, его породивших, ни действий, которые он произведет; и наш разум без помощи опыта не может сделать никакого заключения относительно реального существования и фактов»59.
Это кажется отвлеченным доводом против Античности и вместе с ней всей метафизики, включающей интеллектуальные тенета религии. Но один простейший и очевидный пример заставляет осознать, как далеко время Дэвида Юма отстоит от времени Платона или Оригена: «…никто не воображает, будто взрыв пороха или притяжение магнита могли быть открыты посредством априорных аргументов»60.
Просто подумайте об одном простом выводе, который уже на этом этапе нашего разговора напрашивается сам собой: метафизика не содержит никакого нового знания. Это бессмыслица и тавтологии. Святые отцы христианской церкви и выдающиеся богословы поздних времен буквально не знали ничего. Эти люди были невежественны относительно огромного количества тривиальных знаний, доступных нам сегодня, но вместе с тем они полагали, что рассуждают о высшей и наиболее значительной истине, причем их претензии были совершенно голословны.
Дэвид Юм прямо и однозначно высказывается против связи понятия причины и понятия движения у Аристотеля: «Наш ум никоим образом не может найти действия в предполагаемой причине, даже посредством самого точного и тщательного рассмотрения, ведь действие совершенно отлично от причины и в силу этого никогда не может быть открыто в ней»61.
Мы можем многократно наблюдать, как одно событие следует за другим. Один бильярдный шар сталкивается со вторым, и тот приходит в движение. Но мы могли бы представить себе любой другой исход столкновения (оба шара замрут в одной точке, или первый шар покатится в обратном направлении с той же скоростью), и ждем того результата, который мы назовем «закономерным» только потому, что много раз наблюдали его. В событии самом по себе нет ничего проистекающего непроизвольно из причины события. Мы знаем из опыта, что обогащенный уран в определенных условиях излучает теплоту, которую мы используем в реакторах для превращения воды в пар, но для рудокопов прошлого урановые руды не представляли собой ничего особенного в сравнении с другими рудами и минералами. Мы знаем, что кислота нейтрализует основание, но точно так же мы могли бы представить себе, что эти вещества не взаимодействовали бы друг с другом. Мы знаем о свойстве урана или о свойстве кислоты и основания потому и только потому, что наблюдали нейтрализацию или ядерный распад в экспериментах. До постановки эксперимента никакого сверхъестественного знания, проистекающего из формы или сущности кислоты или урана, у нас не было и не могло быть. Эта простая и очевидная логика достоверности наших знаний о природе, объясняющая школьные лабораторные работы и самые выдающиеся в истории науки открытия, полностью разрушает представление о причинности Аристотеля, и вместе с ним разрушается и значительная часть теологии.
По этой же причине невозможно говорить о каких-то первопричинах:
«Общепризнано, что предельным усилием, доступным человеческому разуму, является приведение принципов, производящих явления природы, к большей простоте и сведение многих частных действий к немногим общим причинам путем заключений, основанных на аналогии, опыте и наблюдении. Что же касается причин этих общих причин, то мы напрасно будем стараться открыть их и никогда не удовлетворимся тем или другим их объяснением. Эти окончательные причины и принципы совершенно скрыты от людского любопытства и исследования. Упругость, тяжесть, сцепление частиц, передача движения путем толчка — вот, вероятно, окончательные причины и принципы, которые мы когда-либо будем в состоянии открыть в природе; и мы вправе считать себя достаточно счастливыми, если при помощи точного исследования и рассуждения можем окончательно или почти окончательно свести частные явления к этим общим принципам. Самая совершенная естественная философия только отодвигает немного дальше границы нашего незнания, а самая совершенная моральная или метафизическая философия, быть может, лишь помогает нам открыть новые области»62.
Все это имеет прямое отношение к нашему разговору. Типичный аргумент религиозных полемистов о том, что Большой взрыв — это «нелепая причина» существования Вселенной, имеет смысл, только если мы понимаем причинность метафизически, как Аристотель, и ищем какие-то присущие самому порядку вещей, а не нашему воображению, цели.
В астрофизике Большой взрыв — это гипотеза, первоначально предложенная для объяснения наблюдаемого расширения Вселенной и тесно связанная с теорией относительности. Со временем данная гипотеза позволила удовлетворительным образом объяснить большое количество наблюдаемых феноменов. Если говорить упрощенно, речь лишь о нескольких моделях, объясняющих ряд наблюдений.
В причине, как простом событии, не имеющем отношения к цели, смыслу, замыслу, воображаемой форме и таинственному источнику движения как такового, нет ничего нелепого. Просто потому что сама экспериментальная причинность не имеет к этим понятиям никакого отношения. Напротив, это метафизика Аристотеля в сравнении с научным методом — нелепость, и вслед за ней нелепостью является религиозная демагогия о смысле жизни. Наука ничего не говорит о причинах причин только потому, что вообще не занимается этими таинственными «причинами причин». На вопрос, почему Вселенная такова, какой она стала, нет ответа не потому, что наука не знает его, а потому что сам такой вопрос — бессмыслица! И религиозный вариант «ответа» на подобный вопрос в духе того, что «Вселенная устроена так, чтобы люди могли жить по-человечески», есть демагогия и ровным счетом ничего больше (напротив, все наши знания приводят нас к мысли, что человеческая природа, включая способность к целеполаганию, обусловлена средой). Рассуждение любителей знаменитого «антропного принципа » о том, «почему» космологические константы именно таковы, каковы они есть, есть как раз такой пример демагогии по мотивам античной философии, не имеющей ни малейшего отношения к научному знанию. «Причина причин» или то, «почему» действие равно противодействию, — это вообще не наука. Наука это только то, «как» происходят наблюдаемые события.
Итак, причинность — это продукт воображения. Причинности как таковой в природе не существует, это слово обозначает то, как мы организуем свой опыт. Вторая особенность научного знания в том, что все это знание является экспериментальным и мы не можем получить научное знание иначе как при помощи экспериментов.
«Так, один из законов движения, открытый опытом, гласит, что момент, или сила, движущегося тела находится в определенном соотношении с его совокупной массой и скоростью; следовательно, небольшая сила может преодолеть самое значительное препятствие или поднять самую большую тяжесть, если при помощи какого-нибудь приспособления или механизма мы сможем увеличить скорость этой силы настолько, чтобы она превозмогла противодействующую ей силу. Геометрия оказывает нам помощь в приложении этого закона, доставляя точные измерения всех частей и фигур, которые могут входить в состав любого рода механических устройств, но открытием самого закона мы обязаны исключительно опыту, и все абстрактные рассуждения в мире ни на шаг не приблизили бы нас к знанию его»63.
Математика и геометрия не являются естественными науками. Это способы описания и экстраполяции, подчиняющиеся собственным правилам, но доказательство математических теорем не даст никакого знания об эмпирической действительности. Эта очевидная для понимающего принципы научного знания человека мысль регулярно ускользает от людей, получивших советское и российское образование. Мысль о подобии математики и философии вообще вызывает у наших соотечественников «когнитивный диссонанс», а любые строго логические ссылки на работы Тарского или Геделя вызывают в обыденной дискуссии не рациональные возражения, а переход на личности, к аргументу ad hominem. Что самое интересное, о преимуществах технарей и недостатках гуманитариев больше всего любят говорить не состоявшиеся физики и не математики, а всевозможные программисты самого разного уровня компетентности, если не сказать жестче. В любом случае, для нас важно то, что математика в широком смысле не открывает нам никаких истин о мире, а лишь тавтологические истины о собственных правилах (как и обычный язык). Ни формальная логика Аристотеля, ни арифметика не могут сами по себе дать правильное знание о природе. Именно поэтому логик Аристотель или математик Декарт создавали непротиворечивый, но бесполезный миф: мусор на входе — мусор на выходе!
Короче говоря, будь то математика или формальная логика схоластов, метод дедуктивных рассуждений не годится для установления эмпирической причинности: «Итак, я говорю, что даже после того, как мы познакомились на опыте с действиями (operations) причинности, выводимые нами из этого опыта заключения не основываются на рассуждении или на каком-либо процессе мышления»64.
«Но, несмотря на это незнание сил и принципов природы, мы, видя похожие друг на друга чувственные качества, всегда предполагаем, что они обладают сходными скрытыми силами, и ожидаем, что они произведут действия, однородные с теми, которые мы воспринимали раньше. Если нам покажут тело одинакового цвета и одинаковой плотности с тем хлебом, который мы раньше ели, то мы, не задумываясь, повторим опыт, с уверенностью предвидя, что этот хлеб так же насытит и поддержит нас, как и прежний: основание именно этого духовного, или мыслительного, процесса мне бы и хотелось узнать »65, — вот она, эта замечательная методологическая проблема естественной науки, проблема индукции! Если помните, именно с индукции начинал Бэкон свой «Новый Органон» (собственно говоря, индукция в сравнении с аристотелевской дедукцией и есть новый инструмент). Именно индукция есть тот процесс, о котором здесь говорит Дэвид Юм. А дальше рассуждение о дедукции приведет нас к проблеме обоснования теоретических обобщений в неопозитивизме Рудольфа Карнапа и Альфреда Айера, а через них — к знаменитейшей проблеме неполноты индукции и фальсификации Карла Поппера!
«Все признают, что нет никакой известной нам связи между чувственными качествами и скрытыми силами и что, следовательно, наш ум приходит к заключению об их постоянном и правильном соединении не на основании того, что знают об их природе»66, — заключает Юм. Именно по этой простой причине рассуждения о предназначении человека к Царствию Небесному, о законах истории или о воле к власти, — это все примеры незнания.
Строго говоря, и законы природы — вовсе не законы. Законы природы — это не правила, с которыми сверяет себе Вселенная как юрист, который сверяет ситуацию с кодексом, или платоновский Демиург, устраивающий материальный мир сообразно эйдосам. Закон природы — это лишь обобщение тех опытных данных, которые мы получили до сих пор, и экстраполяция наших знаний в будущее время. И именно поэтому впросак попадают те, кто видит в законах природы загадочный божественный замысел: дело не в том, что нам не верится в такой замысел, а в том, что сами законы есть лишь продукт нашего ума: «Что же касается прошлого опыта, то он может давать прямые и достоверные сведения только относительно тех именно объектов и того именно периода времени, которые он охватывал. Но почему этот опыт распространяется на будущее время и на другие объекты, которые, насколько нам известно, могут быть подобными первым только по виду?»67
Вот важнейший вывод Дэвида Юма, который может сказать нам многое о человеческом знании и о науке:
«Два суждения: я заметил, что такой-то объект всегда сопровождался таким-то действием, и я предвижу, что другие объекты, похожие по виду на первый, будут сопровождаться сходными действиями — далеко не одинаковы»68.
Между этими двумя суждениями нет строгой логической связи. И мы связываем первое утверждение и второе заключение не на основании дедукции (цепочки рассуждений). Все это предельно важно для разговора о религиях потому, что и религия в наиболее общем виде есть лишь получение выводов из произвольных предпосылок путем дедукции. В этом примере, как и в примере с причинностью, а дальше и с примером фальсификации, станет понятно, насколько научное знание отличается от религиозной спекуляции уже не на уровне содержания, а на уровне структуры. После того как закончим с историей метафизики и ее преодоления, частность этой истории — атеизм, начиная с безбожия авторов эпохи Просвещения и заканчивая Деннетом, будет совершенно прозрачным, понятным и бесспорным следствием предпосылок, которые сами по себе от религии совершенно не зависят (религия, как мы видим, сама является частным следствием других вещей ).
«Когда человек говорит: во всех предыдущих примерах я нашел такие-то чувственные качества соединенными с такими-то скрытыми силами — и когда он говорит: сходные чувственные качества всегда будут соединены со сходными скрытыми силами, он не повинен в тавтологии и суждения эти отнюдь не одинаковы… Если только допустимо подозрение, что порядок природы может измениться и что прошлое может перестать служить правилом для будущего, то всякий опыт становится бесполезным и не дает повода ни к какому выводу, ни к какому заключению»69.
Речь идет далеко не о праздной проблеме. Не обязательно представлять себе радикальное и неожиданное изменение привычного порядка вещей целиком: история науки знает случаи, когда мы создавали модели, которые позволяли нам успешно предсказывать новые наблюдения или создавать работающие устройства. Геоцентрическая система Птолемея предсказывала движение небесных тел. Ньютоновские уравнения движения с ускорением позволяли описывать работу механизмов без учета релятивистской поправки. Современная наука лишь подходит к решению вопроса о гипотетической темной материи и темной энергии. Для каждого процесса, который, как кажется, нами вполне изучен, могут существовать факторы, о которых нам неизвестно и изменение которых может изменить процесс. Перечисляя множество случаев химических реакций, мы можем упускать из виду неизвестный катализатор. Коллапс волновой функции может происходить объективно (как предполагал Пенроуз), независимо от наблюдения, совершенно случайно или в силу влияния фактора, который нам неизвестен.
«Я должен признать непростительно самоуверенным того человека, который заключает, что какой-нибудь аргумент не существует только потому, что он ускользнул от него в ходе его личного исследования. Я должен также признать, что если даже несколько поколений ученых бесполезно прилагали свои усилия к исследованию какого-нибудь предмета, то все же, быть может, было бы слишком поспешным заключать безусловно, что этот предмет свыше человеческого понимания. Даже хотя бы мы рассмотрели все источники нашего знания и заключили, что они непригодны для такого предмета, у нас все еще может остаться подозрение, что или перечисление было неполно, или наше исследование неточно»70, — говорит об этом Юм.
Но какой принцип позволяет нам ориентироваться в мире, если не дедуктивное рассуждение? Юм отвечает на этот вопрос замечательным образом: «Принцип этот есть привычка, или навык, ибо каждый раз, как повторение какого-либо поступка, или действия, порождает склонность к возобновлению того же поступка, или действия, независимо от влияния какого-либо рассуждения или познавательного процесса, мы всегда говорим, что такая склонность есть действие привычки. Употребляя данное слово, мы не претендуем на то, чтобы указать последнюю причину такой склонности, мы только отмечаем всеми признаваемый и хорошо всем знакомый по своим действиям принцип человеческой природы»71.
Вот существо вывода, который совершает Дэвид Юм: в основании человеческого знания лежит условный рефлекс. Человеческий разум — это не сверхъестественная сущность, которая может достигнуть эзотерической изнанки Вселенной. Человеческий разум — это частный случай поведения животных с развитыми нервными системами. Человеческая рациональность — это не метафизическая универсалия, свойственная каждому духу и божеству и лежащая в основе судьбы или кармы. Это не универсальная цель, к которой должна стремиться жизнь на каждой экзопланете и каждый достаточно мощный компьютер. Это лишь способность, сравнимая со способностью некоторых головоногих испускать чернильное облако в случае опасности. И поэтому мысль о том, что окружающий нас мир рационален, как в это верил Платон и как на этом настаивают сторонники мифа о Сотворении, аналогична мысли о том, что мир является жаберным или плацентарным .
«Все эти операции [вера в постоянство фактов, ненависть, любовь] — род природных инстинктов, которые не могут быть ни вызваны, ни предотвращены рассуждением или каким-либо мыслительным и рассудочным процессом»72. Основанная на опыте вера в факты отличается от воображения привычностью и непроизвольностью ассоциации предметов. Чем больше сходство и чем больше смежность предметов, тем сильнее они ассоциируются мозгом. Пример, которым Юм иллюстрируют эту мысль, — почитание реликвий и икон в христианстве. Христиане могли бы направлять свои мысли на отвлеченную идею своего бога или на мысли о Христе, но они предпочитают вещественные раздражители: рисунки, ритуалы, запахи, движения. Здесь между мыслью Дэвида Юма о смежности и сходстве и мыслью Джеймса Фрэзера о магии контакта и подобия в сочинении о мифах и ритуалах «Золотая ветвь» существует очевидная связь. Привычка, которая порождает знание, в некоторых случаях порождает и суеверие. Неудивительно, ведь Юм называет основанием знания о фактах веру («более устойчивое и сильное представление объекта, чем то, которое бывает при простых вымыслах»): если мы однажды видели восход Солнца, мы верим, что Солнце взойдет снова. Тут имеется в виду вера как непроизвольный принцип обработки мозгом ощущений.
Далее Юм прямо говорит о том, что способность находить сходства и вырабатывать условный рефлекс имеет приспособительное значение для человеческого поведения: «Итак, здесь существует разновидность предустановленной гармонии — между ходом природы и сменой наших идей, и, хотя силы, управляющие первым, нам совершенно неизвестны, тем не менее наши мысли и представления, как мы видим, подчинены тому же единому порядку, что и другие создания природы. Принцип же, который произвел это соответствие, есть привычка, столь необходимая для существования человеческого рода и регулирования нашего поведения при всяких обстоятельствах и случайностях нашей жизни. Если бы присутствие объекта не возбуждало мгновенно идеи тех объектов, которые обычно с ним соединяются, все наше знание должно было бы ограничиваться узкой атмосферой нашей памяти и чувств и мы никогда не были бы в состоянии приспособить средства к целям или воспользоваться нашими природными силами для того, чтобы совершить добро или избежать зла»73.
У Юма, кроме этого, есть еще и замечательное рассуждение о вероятности, которое поможет нам при решении вопроса об эволюции и эволюционной биологии: представление о вероятности так же проистекает из представления о причинности. Как и причинность, вероятность не существует в предметах. Есть причинные связи, которые в нашем опыте постоянны, а есть такие, которые по неизвестным нам до конца причинам имеют место лишь в части случаев. И чем больше случаев из общего множества мы наблюдали, тем вероятнее, по-нашему, повторение таких событий в будущем. Вероятность в данном случае — лишь численная пропорция событий прошлого.
«Итак, перенося прошлое на будущее, чтобы определить действие, которое окажется результатом какой-нибудь причины, мы, по-видимому, переносим различные события в той же пропорции, в какой они проявлялись в прошлом, представляя себе, что одно из них произошло, например, сто раз, другое — десять, а третье — один. Так как большое число возможностей совпадает здесь в одном событии, они подкрепляют и подтверждают его в нашем воображении, порождают то чувство, которое мы называем верой, и дают объекту этого чувства преимущество перед противоположным событием, которое не подкреплено таким же числом опытов и не так часто приходит на ум при перенесении прошлого на будущее»74.
Далее Дэвид Юм посвящает свою работу критическому поиску «внутренней связи» между событиями помимо связи причинной (в результате Юм приходит к мысли, что любые суждения о подобной «внутренней связи» причин и следствий безосновательны и спекулятивны). Мысль Юма о связи событий приводит к короткому, но удивительному выводу: «даже в наиболее привычных явлениях энергия причины столь же непостижима, как и в самых необыкновенных, и что путем опыта мы только узнаем часто происходящее соединение объектов, никогда не будучи в состоянии постигнуть что-либо вроде связи между ними»75. Обыватели могут без затруднения назвать причину обыденных событий, но когда происходят чудеса или катастрофы, обыватель зачастую приписывает эти экстраординарные события разумному замыслу. Для классических философов, вроде того же Аристотеля или Декарта, даже обыденные события и действия могут представляться загадочными, и тогда все происходящее в мире, включая отдельные события, приписывается действию высшего разума. Живая природа существует потому, что так захотел бог. Это знакомая картина, которая среди прочего отождествляет обывательские суеверия и теорию заговора и эзотерику. Но важным является то, что все те, кто видит в событиях скрытый замысел, о принципах устройства ума, интеллекта или замысла не знают ничего. Подобные люди «…признают дух и разум не только последней и первичной причиной всех вещей, но и прямой и единственной причиной всех явлений в природе. Они заявляют, что объекты, обычно называемые причинами, в действительности суть не что иное, как поводы, и что истинным и прямым принципом всякого действия является не какая-либо сила или мощь природы, но веление Верховного Существа, которое хочет, чтобы определенные объекты всегда соединялись друг с другом…»76
Аргументы об отсутствии знания о связях между событиями точно так же справедливы и в отношении додумываемых в таких дискуссиях сверхъестественных причинах: «Правда, мы не знаем, каким образом тела действуют друг на друга: их сила, или энергия, совершенно непостижима для нас; но разве нам не одинаково неизвестны тот способ или та сила, с помощью которых дух, даже верховный, действует на себя или же на тела?»77. То есть там, где мы ограничиваемся только вероятностным и построенным на вере и привычке знанием о причинности, нет возможности додумывать и связь событий саму по себе, некий метафизический замысел, потому что наше знание о природе интеллекта или воли так же построено на привычке, как и «внешнее» естественно-научное знание.
Вот существо того вызова, который Юм бросает Аристотелю и вместе с ним тому параноидальному поиску скрытого в последовательности событий замысла божества или кармы, который так любят религиозные и суеверные люди:
«Итак, идея необходимой связи между событиями возникает, по-видимому, когда мы встречаемся с рядом сходных примеров постоянного соединения этих событий; но единичный пример такого рода никогда не может вызвать данной идеи, хотя бы мы рассматривали его со всевозможных точек зрения и во всевозможных положениях. Однако между целым рядом примеров и каждым из них в отдельности нет никакой разницы, коль скоро предполагается, что они совершенно сходны, за исключением той, что после повторения сходных примеров наш ум в силу привычки при возникновении одного явления склонен ожидать то явление, которое его обычно сопровождает, и верить, что оно будет существовать. Эта связь, чувствуемая нашим духом, этот обычный переход воображения от одного объекта к его обычному спутнику и есть то чувство или впечатление, от которого мы производим идею силы или необходимой связи; кроме него, в данном случае ничего нет. Рассмотрите этот вопрос со всех сторон — вы никогда не откроете иного происхождения данной идеи»78.
Причина согласно Дэвиду Юму — это не форма, источник движения, цель и материя вещи, а вот что: объект, за которым следует другой объект, причем все объекты, похожие на первый, сопровождаются объектами, похожими на второй . Ни о какой другой связи событий эксперименты и опыт не дают нам информации. Ни о какой иной связи говорить осмысленно и обоснованно мы не можем. Именно в таком смысле сегодня понимаем понятие причины мы. Все остальное, весь поиск замысла или цели, к причинности отношения не имеет.
В заключение своего исследования человеческого познания Юм уже напрямую затрагивает вопросы религии. От лица своего собеседника-персонажа он критикует религиозную мысль о проявлении в устройстве природы божественного замысла, и главный аргумент Юма заключается в том, что суждение о проявлении человеческого замысла в каком-то предмете, например в устройстве здания, возможно лишь потому, что нам знаком человеческий разум. Еще точнее, человеческий разум — это единственная форма разумности, которая нам знакома. Мы можем заключать о замысле, намерениях и целях только на собственном примере. Эти слова означают лишь наш опыт. Когда мы приписываем природе замысел, мы, в сущности, приписываем ей свои качества, а любые другие качества нам просто неизвестны. Если бы мы не знали о человеческом разуме, мы не смогли бы усмотреть проявление рациональности в тех следах материальной культуры, которые оставляет человек (строго говоря, мы бы вообще не имели бы критерия рациональности).
«Если мы, исходя из порядка природы, заключаем о существовании особой разумной причины, которая впервые ввела во Вселенную порядок и продолжает поддерживать его, мы прибегаем к принципу и недостоверному, и бесполезному. Он недостоверен, ибо предмет его находится совершенно вне сферы человеческого опыта; он бесполезен, ибо, если наше знание об этой причине заимствуется исключительно из порядка природы, мы не можем, согласуясь с правилами здравого рассудка, извлечь из причины какое-нибудь новое заключение или, прибавив что-либо к общему, известному нам из опыта порядку природы, установить какие-либо новые правила образа действий и поведения»79.
В сущности, говоря о замысле в основании природы, мы имеем в виду в качестве причины мира свой собственный замысел и ничего больше. Однако в мире, по человеческим меркам избыточно сложном, наполненном рудиментарными ошибками, безразличном к человеческим интересам, катастрофически расточительном и совершенно далеком от меры «человеческой рациональности», трудно усмотреть антропоморфный замысел или продукт инженерии (о чем будет более подробно сказано далее).
«Главным источником нашей ошибки в данном вопросе и той безграничной свободы предположений, которой мы пользуемся, является тот факт, что мы втихомолку ставим себя на место Высшего Существа и заключаем, что оно всегда будет придерживаться того же образа действий, который мы на его месте признали бы наиболее разумным и подходящим. Однако уже на основании наблюдения обычного течения природы мы могли бы убедиться, что почти все в ней подчинено принципам и правилам, совершенно отличным от наших»80.
Вот к какому заключению приходит Юм: во-первых, когда мы рассуждаем о замысле или разуме, мы имеем в виду только свой собственный разум и замысел. Во-вторых, наша рациональность — плохой способ объяснить окружающую действительность. Забегая вперед, можно добавить к этим аргументам Юма, что человеческая рациональность — не метафизическое свойство, а лишь очень частная формы комбинаторики, более общей формой которой является биологическая эволюция.
3. Против клерикализма и догматизма. Становление атеизма великих просветителей и ученых
Прогресс наук и становление эмпирического метода как новой формы философии, противоположной догматизму и метафизике, породил Просвещение. Это удивительное время, в котором впервые с античных времен был поставлен вопрос о природе общества и социальной инженерии во внерелигиозном ключе.
Самим понятием «прогресс» мы обязаны Мари Жан Антуану Николя де Карита, маркизу де Кондорсе́. Кондорсе в работе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума», по собственным словам, ставит своей целью «показать путем рассуждения и фактами, что не было намечено никакого предела в развитии человеческих способностей, что способность человека к совершенствованию действительно… по крайней мере до тех пор, пока земля будет занимать то же самое место в мировой системе и пока общие законы этой системы не вызовут на земном шаре ни общего потрясения, ни изменений, которые не позволили бы более человеческому роду на нем сохраняться, развернуть свои способности и находить такие же источники существования»81. Кондорсе объединяет социальный и научно-технический прогресс. Представление Кондорсе о социальном прогрессе включает как описательные, так и оценочные суждения: более сложное общественное устройство характеризуется автором как более совершенное. История представляет собой стремление к совершенству, и движение вспять невозможно. Рассуждение Кондорсе об историческом прогрессе, таким образом, представляет собой историцизм в попперовском смысле82, однако представляет особый интерес высказывание автора о будущем: «Наши надежды на улучшение состояния человеческого рода в будущем могут быть сведены к трем важным положениям: уничтожение неравенства между нациями, прогресс равенства между различными классами того же народа, наконец, действительное совершенствование человека»83. Кондорсе делает вполне ожидаемые предсказания, говоря о развитии машинного производства, сельского хозяйства, наук, но затем, что в особенности важно, пишет: «…мы могли уже заключить, что человеческая способность совершенствоваться безгранична. Между тем мы до сих пор полагали, что человек сохранит свои естественные способности и свою организацию в том же виде, в каком она находится теперь. Нам остается, таким образом, исследовать последний вопрос, какова была бы достоверность и размер наших надежд, если бы можно было предположить, что эти способности и эта организация также доступны улучшению»84. Приводя из области развития сельского хозяйства и животноводства пример селекционного совершенствования пород растений и животных, Кондорсе приближается к постановке проблемы евгеники, а суждение о прогрессе медицины подводит автора к мысли о возможности практически неограниченного продления человеческой жизни.
Как видим, взгляд Кондорсе на перспективы науки уже гораздо оптимистичнее взгляда Бэкона. В XVIII веке новый инструмент — свершившийся факт. Естествознание меняет мир, и «Эскиз…» это своего рода манифест эпохи. История показала, что выводы деятелей эпохи Просвещения повлекли за собой далеко идущие политические и цивилизационные изменения…
Критическое размышление о религии немедленно породило ее самое крайнее отрицание (кому-то пришло в голову назвать, наконец, все своими именами). Само понятие «атеист», то есть «безбожник», стало в эпоху Просвещения не полемическим выпадом в адрес оппонента, каким оно было со времен Античности, а наименованием полноценных (еще каких!) взглядов.
Виновником тому прежде всего — Поль Анри Гольбах. Когда речь заходит об атеизме как понятии, разговор начинается именно с этого французского имени. Сочинения Гольбаха «Система природы, или О законах мира физического и мира духовного» и «Разоблаченное христианство, или Рассмотрение начал христианской религии и ее последствий» (среди прочих его антиклерикальных и политических сочинений) — это высказанный прямо и без всякого лицемерия, безжалостный и окончательный приговор религии. Труды Гольбаха, в которых он прямо показывает, зачем политикам религия (и почему, в конце концов, ставка на религии и невежество народа — жестокая ошибка), к несчастью, актуальны сегодня для нынешней России в равной степени так же, как и в момент первой публикации. Мне кажется, невозможно говорить о религии откровеннее, чем это делал Гольбах, если только не перейти от утонченного беллетристического стиля XVIII века к стилистике и арго Ирвина Уэлша или Чака Паланика, да и в таком случае суть останется той же.
Однако при всей вызывающей откровенности «Разоблаченное христианство» показывает только маленькую часть большей картины, что я и надеюсь показать в настоящей книге. Собственно говоря, и религия как таковая — только частность большей картины интеллектуальных уловок и жанра философских рассуждений. Сочинение Гольбаха прежде всего политическое и антиклерикальное, а уже потом философское или какое-либо другое. По-своему это замечательно, ведь нельзя забывать, что ложь, вымысел и бессмыслица сами по себе — всего лишь инструмент власти. Но достаточно лишь один раз показать великую бессмыслицу, скрытую в жанре метафизики, чтобы затем с легкостью прийти к самым смелым антиклерикальным выводам. Политика и мораль вторичны логике в точности так же, как ей вторичны постановка эксперимента или доказательство математической теоремы, но мораль и политика, вооруженные знанием и логикой, сильнее ханжества и тирании, вооруженных демагогией, популизмом и страхом.
Гольбах очень саркастически и не стесняя себя в выражениях, что весьма смело для его времени, излагает историю иудаизма и христианства, называя евреев племенем бандитов, а их бога Яхве — извергом. Это вполне соответствует описанным в Библии событиям, если считать эти события историческими: довольно только вспомнить историю покорения Ханаана. Конечно, буквальное прочтение Библии это не то же самое, что реконструкция истории кочевых семитских племен или исследование об истории катакомбных христиан. В этом «Разоблаченное христианство» ближе к «Забавной Библии» Лео Таксиля: историко-религиозный миф берется буквально, и все его внутренние противоречия, нарушения логики, сомнительные сюжетные ходы или откровенные жестокости саркастически обнажаются. Но что в этом неверного, если и верующие люди чаще всего буквально воспринимают исторические мифы своих религий?
«Система природы, или О законах мира физического и мира духовного» несколько любопытнее в этом отношении, поскольку это сочинение решает познавательные проблемы и опирается на естествознание своего времени. В своем сочинении Гольбах излагает материалистические взгляды на природу, и в особенности на человеческую природу, близкую воззрениям Ламетри.
«Человек занимает определенное место среди той массы тел и существ, совокупность которых образует природу. Сущность человека, т. е. отличающий его способ бытия, делает его способным к различным способам действия или движениям, одни из которых просты и видимы, а другие сложны и скрыты. Человеческая жизнь представляет собой лишь длинную цепь необходимых и взаимосвязанных движений, источником которых являются либо причины, скрытые внутри самого человека, как кровь, нервы, волокна, мышцы, кости — словом, твердые и жидкие вещества, входящие в состав его тела, либо внешние причины, которые, действуя на человека различным образом, модифицируют его, как окружающий его воздух, пища, которой он питается, и вообще все предметы, непосредственно действующие на его чувства и, следовательно, производящие в нем непрестанные изменения. <…>
Какими бы чудесными, скрытыми, сложными ни были как видимые, так и внутренние способы действия человеческой машины, внимательно исследуя их, мы увидим, что все действия, движения, изменения этой машины, ее различные состояния, совершающиеся с ней катастрофы постоянно регулируются законами, присущими всем существам, которых природа порождает, развивает, обогащает способностями, растит, сохраняет в течение некоторого времени, а под конец разрушает или разлагает, заставляя их изменить свою форму»85.
Это суждение Гольбаха о человеческой природе полностью совпадает с суждением французского врача и философа-материалиста Жюльен-Офре Ламетри, который в работе «Человек-машина»86 высказался против спиритуализма и в защиту материализма в представлении о человеческой природе. По мнению Ламетри, врачи — это те единственные настоящие ученые, которые исследуют человеческую природу опытным путем и воздерживаются от оценочных суждений в отношении предмета своего исследования. Черты характера и эмоциональные состояния Ламетри считал производными от работы органов и содержания в организме желчи, флегмы и крови (в духе Гиппократа). Знания Ламетри свел к благоприобретенным навыкам, добродетель обнаружил в поведении животных и свел к полезному страху перед симметричным поведенческим ответом, а различие между животными и человеком видел в способности последнего к речи. Подобные суждения влекут за собой строго материалистический вывод:
«Если все способности души настолько зависят от устройства мозга и всего тела, что, в сущности, они представляют собой не что иное, как результат этого устройства, то человека можно считать весьма просвещенной машиной!.. Итак, душа — это лишенный содержания термин, за которым не кроется никакого определенного представления и которым ум может пользоваться лишь для обозначения той части нашего организма, которая мыслит»87.
Согласно Ламетри возможно говорить лишь об одной субстанции, формой организации которой является человек, а следовательно, нет ничего невыполнимого в задаче создания говорящей машины «для руки какого-нибудь нового Прометея»88. Это выводы, которые опередили свое время на столетия. В сущности, перед нами едва ли не предтеча трансгуманизма первой половины XXI века, эпохи генной инженерии, взлета нейробиологии и революции в информационных технологиях.
Обратите внимание, заочные оппоненты Гольбаха и Ламетри в этой дискуссии — не только и даже не столько христианские богословы вроде Дионисия, Оригена, Фомы Аквинского или Григория Паламы, ведь те, как мы выяснили, более повторяют догматическую аргументацию античности, сколько метафизики, от Платона до Декарта.
С точки зрения Гольбаха и Ламетри, человеческая природа исчерпывается состояниями человеческого организма, включая нервную систему. Проблема «свободы воли» как таковая лишена смысла, поэтому человеческое поведение предсказуемо и определяется условиями среды. Человеческая индивидуальность сводится к нейрогуморальным состояниям и содержанию памяти, а память, как это отлично понимаем мы теперь, есть лишь материальная структура, подобная машинным накопителям с магнитными дисками или хромосомам живых организмов. Подобный вывод о человеческой природе — единственное возможное следствие данных естественных наук, а его единственная возможная альтернатива, дуализм души и тела, — лишь случайно сложившийся миф, как вы вполне ясно увидели это у Платона.
У современного человека есть только две альтернативные аналогии для того, чтобы представить собственную природу: мифы бронзового века или знание об устройстве компьютера. Какой бы грубой, наивной и поспешной ни была вторая (возможно, она покажется исследователям будущего такой же умозрительной и неловкой, как догадки Ламетри), первая вообще не выдерживает никакой критики.
Причина мифа о душе в том, что механизмы мышления в отличие от механизмов движения конечностей или работы кровеносной системы не так очевидны для анатома или биолога (впрочем, такими были и механизмы наследственности до открытия Крика и Уотсона в середине XX века):
«Одним словом, человек вообразил, что в нем имеется некая отличная от него самого и одаренная тайной силой субстанция, и приписал ей свойства, совершенно отличные от свойств действующих на его органы видимых причин и от свойств самих этих органов. Он не обратил внимания на то, что понять или объяснить несложные причины, благодаря которым падает камень или движется его рука, может быть, не менее трудно, чем постигнуть причину того внутреннего движения, результатом которого являются мысль и воля. Так недостаточно размышлявший над природой человек стал рассматривать ее с неверной точки зрения и не заметил сходства и соответствия между движениями этого мнимого двигателя и движениями своего тела или его материальных органов. Поэтому он стал считать себя не только особым, но и совершенно отличным от других частей природы существом, обладающим более простой сущностью и не имеющим ничего общего со всем тем, что он наблюдал.
Отсюда последовательно возникли понятия духовности, имматериальности, бессмертия и все неопределенные слова, мало-помалу придуманные мастерами умозрительных тонкостей для обозначения атрибутов неизвестной субстанции, которую человек, как ему казалось, заключает в самом себе в качестве скрытого источника своих видимых движений. Венцом всех рискованных гипотез насчет этой движущей силы явилось предположение, что она в отличие от всех других существ и служащего ей оболочкой тела не подвергается распаду, что ее совершенная простота не дает ей разложиться или изменить свою форму, — одним словом, что по своей сущности она недоступна тем переменам, которым подвержено человеческое тело, равно как и все сложные существа природы»89.
Вспомните основоположников метафизического рассуждения о духовной или умственной стороне человеческой природы: все их рассуждения не продукт знания, а лишь миф. Положения этого мифа принимаются совершенно случайно, безо всякой связи с опытными данными, на основании умозрения и игры слов. Вся риторика религиозных апологетов построена на злоупотреблении языком, на спекуляции, на принципах демагогии вроде ложной альтернативы.
«Так метафизики, сочиняя слова и умножая существа, только запутались в новых затруднениях, больших, чем те, которых они хотели избежать, и создали препятствия прогрессу знания: не обладая фактами, они обратились к содействию гипотез, вскоре превратившихся для них в реальности; а их воображение, не руководствующееся более опытом, безнадежно заблудилось в лабиринте какого-то выдуманного ими идеального интеллектуального мира, так что стало почти невозможным извлечь его оттуда и поставить на правильный путь, указать который может только опыт»90.
Гольбах в своем рассуждении о человеческой природе, разумеется, не может опираться на теорию эволюции или тем более на генетику, но вполне закономерно предполагает, что специфика устройства человека есть приспособление к конкретным условиям современного нам мира.
«Люди, животные, растения и минералы далеко не одинаковы в разных местах, изменяясь иногда очень резко даже при незначительной разнице в расстоянии. Слон обитает в жарком поясе; олень живет в климатических условиях холодного севера; Индостан — родина алмаза, который не встречается в наших краях; ананас растет в Америке на открытом воздухе, у нас же для его выращивания нужны ухищрения искусства, доставляющие ему столько солнечного света, сколько требуется. Наконец, люди отличаются в различных климатических условиях по цвету кожи, росту, строению, силе, ловкости, мужеству, духовным способностям»91, — достаточно знаний уровня XVIII века, чтобы вынести вердикт аргументации об «антропном принципе» и любой разновидности креационизма. Из подобной же аргументации Гольбах делает вывод и о том, что «у человека нет никаких оснований считать себя привилегированным существом природы» — человек представляет собой лишь отдельный вид млекопитающих, а все человеческие интеллектуальные способности есть не плод сопричастности миру идей, а лишь способ приспособления, подобный толстой шкуре. Эти простейшие для нас выводы делают религиозный миф в его классическом виде несостоятельным, и все последующие века наука лишь подтверждала смелые догадки первых ученых. Без свободы воли, без особенного онтологического статуса разума, без таинственной реальности эйдосов и духов, религиозный миф — ничто, и это было совершенно очевидно уже просветителям XVIII столетия.
Даже природа интеллектуальных способностей, о которых так много было сказано античными философами и богословами, не была для просветителей загадкой:
«Чем больше мы станем размышлять, тем больше будем убеждаться в том, что душа не только не отлична от тела, но есть само это тело, рассматриваемое по отношению к некоторым из его функций или к некоторым способам бытия и действия, на которые оно способно, пока живет. Таким образом, душа есть человек, рассматриваемый по отношению к его способности чувствовать, мыслить и действовать определенным образом, вытекающим из его собственной природы, т. е. из его свойств, его специфической организации и длительных или преходящих модификаций, испытываемых этой организацией под влиянием действующих на нее явлений.
Те, кто отличает душу от тела, по существу, просто отличают находящийся в теле мозг от самого тела. Действительно, мозг есть тот общий центр, где оканчиваются и соединяются все нервы, исходящие от всех частей человеческого тела. При помощи этого внутреннего органа совершаются все операции, приписываемые душе: сообщенные нервам впечатления, изменения и движения видоизменяют мозг; реагируя под влиянием этого, мозг приводит в движение органы тела или же действует на самого себя и становится способным произвести внутри себя огромное разнообразие движений, называемых умственными способностями»92.
Перед нами классический естественно-научный физикализм, то есть то, в чем позиции авторов XVIII и XXI веков полностью совпадают. Гольбах доказывает свой тезис о материальной природе интеллектуальных способностей, анализируя различие интеллектуальных способностей у разных людей (интеллектуальные способности, темперамент и функции нервной системы в целом различаются, как различается конституция и сила), а также с познавательной точки зрения, — человек не обладает врожденными знаниями, а единственный источник знания — это опыт. Вот эти мысли Гольбаха, и каждая из них вполне закономерна.
Человеческая способность мыслить существует постольку, поскольку существует чувственный опыт. Осознавать что-то — означает иметь пищу для ума, а единственный источник такой пищи — чувственный опыт. Само то, что мы называем сознанием, по мысли Гольбаха, есть функция от чувственных раздражителей:
«Сознание состоит в явственном сотрясении, в воспринятой нами модификации мозга. Отсюда ясно, что ощущение — это способ бытия нашего мозга, или явственное изменение, происшедшее в нем под влиянием воздействий, получаемых нашими органами от внешних или внутренних причин, надолго или на короткое время видоизменяющих их. Действительно, мы наблюдаем, что человек, на органы которого не действуют никакие внешние предметы, чувствует самого себя и сознает происходящие в нем изменения; в этом случае его мозг видоизменяется или обновляется благодаря внутренним модификациям. Не будем удивляться этому; в столь сложной машине, как человеческое тело, все части которого сообщаются с мозгом, последний непременно должен получать сведения о затруднениях, изменениях и импульсах, происходящих в целом, чьи чувствительные по своей природе части находятся в непрерывном взаимодействии и объединяются в мозгу»93.
Люди различаются по своим интеллектуальным возможностям. Это не просто означает, что далеко не каждому могло бы быть дано платоновское созерцание идей самих по себе: интеллект от человека к человеку варьируется так же, как физические способности. Было бы странно ожидать, что сопричастная благу самому по себе сверхъестественная универсалия может быть источником тугодумства, потому что как в итоге тугодум мог бы прийти к благу, и в чем может быть благо или высший замысел существования не способных спастись в силу собственной глупости людей?
«Ум является следствием этой физической чувствительности. Действительно, мы называем умом присущую некоторым людям способность быстро схватывать предметы в их совокупности и различных взаимоотношениях. Мы называем гением способность легко схватывать обширные, полезные и трудно познаваемые предметы в их совокупности и взаимоотношениях. Ум можно сравнить с зорким зрением, быстро замечающим вещи; гений — это зрение, с одного взгляда схватывающее все точки обширного горизонта. Здравый ум — это ум, воспринимающий предметы и отношения такими, как они есть. Путаный ум — это ум, воспринимающий отношения искаженно, что происходит от какого-то изъяна организации. Здравый ум подобен умелым рукам»94.
В заключение своей аргументации в пользу материальной природы интеллектуальных способностей Гольбах выступает против убеждений о «врожденных идеях». Такие авторы, как Декарт и Беркли, из подобных предпосылок выводили убеждения о полной автономии «познающего субъекта» от эмпирической действительности.
«Они полагают, будто этот внутренний орган способен извлекать идеи из глубин самого себя, а также утверждают, будто человек, рождаясь, приносит с собой идеи, которые в соответствии с этим удивительным учением были названы врожденными. Они полагают, что душа в силу какой-то особой привилегии выделяется из природы, в которой все взаимосвязано, обладая способностью самостоятельно двигаться, создавать идеи и мыслить о тех или иных предметах без всякого возбуждения со стороны внешней причины, которая воздействует на органы души, доставляет ей образ объекта ее мыслей»95.
Вопрос о том, является ли весь наш опыт приобретаемым, не так прост, как может показаться: я могу допустить, что некоторые способы того, как мозг ассоциирует приобретаемую информацию, сами по себе являются унаследованными. Но я прошу разделять наследственность, как понимаем ее мы сегодня, и сверхъестественное априорное знание, каким его представлял себе еще Платон в его спекуляциях о знании как вспоминании прошлых жизней!
«Но, доводя анализ до конца, мы убеждаемся, что эти идеи могут являться к нам лишь от внешних предметов, которые, действуя на наши чувства, модифицируют наш мозг, или же от материальных объектов, которые, находясь внутри нашего организма, заставляют некоторые части нашего тела испытывать сознаваемые нами ощущения и доставляют нам идеи, правильно или неправильно относимые нами к воздействующей на нас причине. Всякая идея представляет собой некоторое следствие. Но как бы ни было трудно добраться до ее причины, можем ли мы допустить, что этой причины вовсе не существует? Если мы способны получать идеи только от материальных субстанций, как можем мы предположить, что причина наших идей может быть нематериальной? <…>
Легко заметить источник заблуждений, в которые впали глубокомысленные и очень просвещенные люди, рассуждавшие о нашей душе и ее функциях. Под давлением своих предрассудков или из страха перед учением грозной теологии они исходили из принципа, будто эта душа является чистым духом, нематериальной субстанцией, обладающей сущностью, совершенно отличной от тел или от всего того, что мы видим; допустив это, они раз и навсегда теряли всякую возможность понять, как могут материальные предметы и грубые телесные органы действовать на совершенно отличную от них субстанцию и видоизменять ее, сообщая ей идеи. Будучи не в состоянии объяснить данное явление и видя, однако, что душа обладает идеями, эти мыслители заключили, что последняя должна извлекать их из самой себя, а не из существ, действия которых на нее они не могли понять, исходя из своей гипотезы. Поэтому они вообразили, что все модификации души зависят от ее собственной энергии, сообщаются ей в момент ее создания столь же нематериальным, как она сама, творцом природы и нисколько не зависят от существ, которые мы знаем и которые грубо воздействуют на нас при посредстве чувств»96.
Подобно Юму, Гольбах видит в любой доступной разуму идее комбинацию опытных данных, например, сновидения — или религиозные мифы: «Теологи не спали, когда выдумывали на досуге сказки о призраках, которыми они пользуются для устрашения людей; эти теологи просто соединили разрозненные черты самых страшных представителей нашего вида; безмерно преувеличив власть и права хорошо известных нам земных тиранов, они создали из них богов, перед которыми мы трепещем»97.
На основании своего рассуждения Гольбах приходит к мысли о том, что человеческий ум никогда не действует произвольно, просто состояния вроде сновидения или опьянения отличаются от состояния трезвого бодрствования, что также совершенно точным образом соответствует нашим современным представлениям о процессах «быстрого сна» или биохимических основаниях алкогольного или наркотического опьянения: но даже наркотические кошмары обрабатывают поступившие в наш мозг когда-то чувственные данные, пусть и в совершенно беспорядочной форме. Подобное проницательное отношение к природе воображения, которое мы встречаем у Юма и Гольбаха, объясняет нам больше, чем нагруженные метафизикой спекуляции Платона, Беркли или Декарта. В результате подобных рассуждений Гольбах приходит к мысли, что те идеи, которые не соотнесены с опытом, должны быть попросту устранены из нашего языка и ума, как заведомо не имеющие смысла . Фактически это логика неопозитивистов вроде Айера или Карнапа.
Мысль о том, что сфера духовного и интеллектуального в действительности сводима к устройству и работе мозга, лишает оснований жизненно важное для религии представление о свободе воли: «Мы рождаемся помимо нашего согласия, наша организация не зависит от нас, наши идеи появляются у нас непроизвольным образом, наши привычки зависят от тех, кто сообщает их нам»98. Если человеческое поведение в том или другом важном для культа аспекте детерминировано теми или иными факторами, бессмысленно вменять человеку это поведение в вину, как бессмысленно называть грехом или препятствием для достижения нирваны цвет глаз. Одной из самых больших проблем для авраамических культов, например, является сексуальность, роль которой в религиях заслуживает отдельного исследования. Иудаизм описывает как вполне богоугодные явления многоженство, рабовладение, торговлю дочерями и содержание наложниц. Относящееся к сексуальности как типичный невротик из клинических наблюдений Зигмунда Фрейда, христианство ставит в образец строгий целибат (от чего и страдает). Ислам вообще содержит малопонятные для европейцев нормы семейного быта, включающие отношения с маленькими девочками, совершенно потребительское, на грани рабовладения отношение к женам и побивание камнями за изнасилование — самих жертв. При этом авраамические культы с каким-то не вполне здоровым возбуждением демонизируют гомосексуальность, которая согласно представлениям современной эмбриологии, скорее всего, определяется на этапе внутриутробного развития под действием половых гормонов на хромосомы (детали данного биохимического механизма пока не вполне понятны). Вообще, регуляция сексуального поведения — один из мощнейших рычагов манипуляции людьми. Самые разные культы ставят в образец или в вину людям самые разные модели сексуального поведения, от промискуитета или тантрического секса до целибата, секса с мессией-гуру или многоженства. Особенности сексуального поведения вроде гомосексуальности то обожествляются, как у североамериканских индейцев или греков времен Платона, то демонизируются, как в современных христианстве и исламе. Последнее нисколько не препятствует ставшей притчей во языцех ужасающей педофилии католического духовенства. Можно предположить, что самым рациональным является отношение к сексуальности в современной Японии, где массовая культура сублимирует самые безумные фантазии, которые европейцу трудно даже описать без смеси стыда и смущения, но уровень сексуальных преступлений, по имеющейся информации, является самым низким в мире. Психоанализ Фрейда не может быть отнесен к естественно-научному знанию и представляет собой довольно вольные спекуляции, однако конкретно фрейдистская картина сексуального невроза безошибочно узнаваема в том мелодраматическом и нарочитом спектакле, который культы выстроили вокруг банального соития.
Со стороны возведение в космическую, онтологическую степень такой частности, как формы человеческого сексуального поведения, кажется откровенно смешным. Но за этой комичной проблемой скрывается значительно бо́льшая, прекрасно отмеченная Гольбахом: если человеческое поведение не является произволом потусторонней сущности из мира эйдосов, а лишь следствием материального устройства человеческой природы, все категоричные требования религий и идеологий лишены смысла. По этой причине, вероятно, советский большевизм и ненавидел так генетику (что может быть более смешным, чем претендующий на научность идеологический миф, «донкихотствующий» против точного научного знания?). Истина заключается в следующем: в мире генетики, нейробиологии и кибернетики метафизической «свободы воли» не существует, а человеческое поведение представляет собой сочетание безусловных и условных поведенческих реакций, где условные поведенческие реакции определяются способностью мозга накапливать память и содержимым этой нейронной памяти. Я не говорю здесь о детерминизме, но и не говорю об индетерминизме. Вместо этого я приведу аргументацию физика и философа Эрнста Маха: мы не можем говорить о детерминизме, поскольку даже если мы определили причины конкретного эффекта, мы не можем исключать, что не упустили при этом неизвестный нам фактор (неизвестный катализатор, фермент или квантовый эффект). Но и об индетерминизме говорить не имеет смысла, поскольку если нам кажется, что некоторое событие наступает случайно, это еще не значит, что мы не сможем найти причину такого события.
В мире взаимодействий метафизическая свобода невозможна, а наши поведенческие привычки, повторяющийся образ действий в ответ на похожие раздражители не имели бы смысла. «Для того чтобы человек мог быть свободным, всем существам пришлось бы утратить свою сущность, а ему самому потерять физическую чувствительность и не различать больше ни добра, ни зла, ни удовольствия, ни страдания. Но тогда он не мог бы ни уцелеть, ни сделать свое существование счастливым. Так как все вещи стали бы для него безразличны, перед ним больше не было бы выбора, и он не знал бы больше, что ему следует любить и искать, а чего — бояться и избегать. Одним словом, человек был бы каким-то противоестественным существом, совершенно неспособным поступать так, как он поступает в действительности»99. Раз воля — это типичный поведенческий ответ организма на типичные же раздражители, а «идеи» — лишь модификации мозга наряду с внешними стимулами, как можно говорить о свободе этой воли? А без свободной воли нет смысла в христианском мифе о теодицее, то есть об оправдании сосуществования всемогущего бога и зла, ведь согласно этому мифу человек может отпасть от блага лишь по свободе своей воли.
Гольбах превосходно описывает волю и намерения человека в терминах причины и следствия. Каждое наше решение — не произвол, а результат взаимодействия конкретных разнонаправленных причин. Выходит, само принятие решения — это операция мозга по сопоставлению ожидаемых результатов и их эмоционального веса (ценности). Но точно так же может действовать и алгоритм, пусть он и ограничен пока в способности «взвешивать» последствия (кто знает, может, этот недостаток перешагнут нейронные сети-переводчики текстов, способные оценивать «семантический вес» понятий?). Когда мозг тормозит волю, а эмоционально-мнемонические весы колеблются, мы говорим, что обдумываем решение, где обдумывать — «значит попеременно любить и ненавидеть; значит попеременно быть притягиваемым и отталкиваемым; значит испытывать воздействие то одного, то другого мотива»100.
Гольбах в своем сочинении сказал немало о моральной стороне религии и связи религии с общественной моралью. Точнее, о том, что потусторонние цели религии не имеют и не могут иметь никакого отношения к интересам и морали общества. Это все так же на удивление остроумно и злободневно и сегодня, однако закончить разговор о Гольбахе хотелось бы его анализом понятий о божестве во второй части его работы.
«Если бы у людей хватило мужества обратиться к источнику взглядов, глубочайшим образом запечатленных в их мозгу; если бы они отдали себе точный отчет в причинах, заставляющих их относиться к этим взглядам с уважением как к чему-то священному; если бы они решились хладнокровно проанализировать мотивы своих надежд и опасений, то они нашли бы, что предметы или идеи, способные сильнейшим образом влиять на них, часто не обладают никакой реальностью, представляя собой просто лишенные смысла слова, призраки, созданные невежеством и видоизмененные больным воображением»101, — пишет великий просветитель. Это существо нашего с вами разговора: если взглянуть на самое основание религиозных взглядов, строго и безразлично ко всей мелодраматической ауре разговоров о вере, окажется, что каждый их постулат взят совершенно случайно и не означает ничего конкретного.
Человеку дан лишь один-единственный эффективный способ познания — экспериментальный.
«Человек от рождения наделен лишь способностью испытывать более или менее сильные ощущения в соответствии со своей индивидуальной организацией; он не знает ни одной из действующих на него сил; руководствуясь ощущениями, он мало-помалу открывает их различные качества, обучается судить о них, привыкает к ним и в соответствии с их воздействием на него связывает с ними различные идеи; последние оказываются истинными или ложными в зависимости от того, хорошо или плохо устроены его органы и способны ли они производить надежные повторные опыты»102.
Все, противоположное этому способу, не является источником знания вообще. Богословие и платонизм представляют собой не знание, а мифы, а причина мифа — отсутствие знания. Именно Гольбах начал говорить о религиозном мифе как о способе первобытных людей объяснить действительность. Это хорошо знакомое нам сегодня объяснение, с которым мы сталкиваемся еще в школе, на самом деле было довольно смелым и остроумным для своего времени. Позже антропологические исследования современных диких народов дали более широкое представление о мифах. Мифы, если верить антропологам вроде Эванса-Причарда, имеют множество функций, это не только объяснение, но и способ запоминания поведенческих привычек, ведь архаичные народы описывают в мифах ритуалы, а при помощи ритуалов учатся навыкам предков. Ритуал жертвоприношения — это не только способ воздействовать на бога, но и способ снятия внутривидовой агрессии, как об этом писал Рене Жирар. Структурно-антропологическое исследование мифа крайне интересно, но мне хотелось бы сейчас вернуться к проблеме метафизики.
Кажется, один из корней религии заключается в том, что мы непроизвольно приписываем событиям «замысел», то есть принципы, свойственные нашему поведению. Полагаю, наш мозг просто переносит на обстоятельства и предметы те навыки, которые помогают нам эффективно воздействовать друг на друга: убеждать, запугивать, умолять. Отлично известно, что архаичным народам свойственно «кормить» и «наказывать» свои идолы, шимпанзе свойственно «угрожать» раздражающему их дождю, а нам самим, к примеру, ругаться на «ударивший нас» молоток. Эта ошибка наравне с параноидальным свойством нашего мозга во всех событиях искать замысел, а также с коммуникативной ошибкой, в силу которой мы определяем «интеллектуальность» и «человечность» как способности к общению с нами (от молитв предкам и общения с домашними животными до теста Алана Тьюринга, исследований китообразных Тимоти Лири и проекта SETI Карла Сагана), порождает наши мифы и в более широком смысле определяет устройство нашего воображения.
«Первая богословская система вначале заставила человека бояться и почитать стихии, материальные и грубые предметы; затем он стал поклоняться существам, управляющим стихиями, — могущественным гениям, гениям низшего порядка, героям или людям, одаренным великими доблестями. В ходе дальнейших размышлений он решил упростить эту систему, подчинив всю природу одному-единственному агенту — верховному разуму, духу, мировой душе, приводящей в движение эту природу и ее части. Восходя от одной причины к другой, люди в конце концов перестали различать что бы то ни было, и в этом-то мраке они поместили своего бога; в этих темных безднах их встревоженное воображение продолжает фабриковать химеры, которые будут страшить людей до тех пор, пока познание природы не освободит их от веры в эти призраки — предметы их постоянного и бессмысленного поклонения.
Если мы захотим понять сущность наших представлений о божестве, то должны будем признать, что словом „бог“ люди всегда обозначают наиболее скрытую, далекую и неизвестную причину наблюдаемых ими явлений; они употребляют это слово лишь в тех случаях, когда перестают разбираться в механизме естественных и известных им причин; утратив из виду последовательность и связь этих причин, они прекращают свои поиски; чтобы покончить с затруднениями, называют богом последнюю причину, т. е. ту, которая находится за гранью всех известных им причин; таким образом, они дают лишь туманное название некоторой неизвестной причине, перед которой останавливаются под влиянием лености мысли или ограниченности своих познаний»103.
Верующие люди ищут религиозное объяснение не только воображаемым ими метафизическим принципам или экстраординарным событиям, но и самым обыкновенным явлениям. Это было верно в XVIII веке, и это по-прежнему верно и сейчас. Практически каждый аргумент Гольбаха, от антропологических или культурологических до естественно-научных, получил значительное подкрепление за прошедшие столетия, и любая дискуссия собственно об атеизме построена на том логическом основании, которое заложено в «Системе природы». Рассуждение Гольбаха о научных знаниях еще раз возвращает нас к противопоставлению логики Аристотеля и Юма. Мысль, что «бог является причиной» любого конкретного события, существует только постольку, поскольку подобная логика была изложена в «Метафизике», и все это не имеет отношения к научной причинности, как это блестяще показал Юм, и к научной логике, как это показал Бэкон. Подобно «первопричине» Аристотеля христианский бог в дискуссии о религии — это лишь «сюжетное устройство» (plot device) религиозного мифа, занимающее место логических пробелов.
Что касается платоновской логики блага и отсутствия блага, Гольбах так же замечательно обнаруживает, что человек как бы мыслит свое благополучие самим собой разумеющимся порядком вещей, но страдания — нарушением этого порядка. Это именно тот дефект логики, который характерен и для Платона, и для христианства, и всей современной проблематики религий. Сами по себе вещи не являются благими в том же смысле, в каком они являются протяженными. Мы оцениваем их в силу наших частных интересов. При этом мир будто бы в долгу перед нами и нашими интересами, и всякое отступление от привычного и удобного нам порядка вещей есть зло, нарушение космического характера. Инфантильность, антропоцентризм и несостоятельность такой логики очевидны. И уже совершенно не важно, что является источником подобного зла: несовершенство материи, ее неспособность соответствовать нашему умозрению или мстительность и другие сантименты вымышленных сверхъестественных существ, которым следует приносить жертвы. В том и в другом случаях следует спросить прямо: а что такого само собой разумеющегося в нашем умозрении о благе? В чем его происхождение? Является ли оно неким началом космоса, как у Платона, или нашей частной реакцией на раздражители? Я никогда не видел удовлетворительного или честного ответа на такой прямолинейный или простой вопрос.
Мы принимаем феномены, порождающие положительные реакции, как данность, но тратим силы на поиск причин бедствий. Этот же аргумент касается не только платоновского представления о благе самом по себе, но и знаменитого сегодня «антропного принципа»: «Упорно усматривая во всем только себя самого, человек никогда не замечал всеобъемлющей природы, ничтожную часть которой он составляет». Оценочно нагруженная онтология Платона нелепа. Оценочные характеристики не имеют отношения к порядку вещей.
Другим следствием подобного представления о божестве является религиозное «общение» с этим божеством. Я вижу в подобном «общении» коммуникативную ошибку мозга. Мы пытаемся умолять обстоятельства, угрожать им или наказывать их точно так же, как мы умоляем, угрожаем или наказываем себе подобных. Даже вполне рациональные люди способны злиться на предметы, которые «причинили» им боль: кто не ругался на молоток, угодивший по пальцу вместо гвоздя? Видимо, это непроизвольное следствие устройства нашего мозга, поскольку наш мозг в ходе эволюции нашего вида приспосабливался в первую очередь к функции общения, социализации, от которой настолько зависят наши выживание и репродукция.
Наконец, воображение скрытых за событиями замыслов или мотивов сверхъестественных существ начисто затуманивает наше понимание природы. Чем больше мы тратим сил на суеверия, тем меньше способны наблюдать и предсказывать естественное развитие событий. Это же, кстати, справедливо и в отношении социально-философских мифов, вроде мифа Хантингтона о «столкновении цивилизаций» или мифа Маркса о «законах истории»: чем больше мы ищем в конкретных событиях скрытые нефальсифицируемые принципы, тем меньше понимаем, какие конкретные события приводят к конкретным последствиям, и для политиков это может стать причиной трагических ошибок. Тут я хотел бы снова подчеркнуть: между религией и другими типами заблуждений нет четкой разницы.
Справедливо и обратное: чем лучше мы понимаем научный метод и отдельные эмпирические закономерности, тем меньше нам интересны суеверия, метафизика и идеологии. Мы не отрицаем эти фикции мозга, поскольку отрицание всегда эмоционально нагружено и всегда лишено надежных оснований. Отрицание — это крайняя мера. Если у нас есть надежные основания — наши знания и опыт, — мы не отрицаем то, в чем не видим смысла. Мы можем спокойно и последовательно проанализировать миф, обнаружить его структуру, его происхождение и его произвольно взятые основания, и подобный анализ даже может быть интересным и полезным.
В этом случае миф, будь то миф философский, религиозный или идеологический, для нас как засушенное насекомое. Предмет исследования, экспонат коллекции, содержимое архива.
Итак, метафизика есть лишь глубокомысленное незнание. Ее основания, как и основания суеверий первобытных племен — отсутствие знания. Между богословием и архаичным мифом нет принципиальной разницы. Теолог не знает ничего, кроме истории своего мифа, рассмотренной некритично и поверхностно.
«В дальнейшем метафизики, проведшие такое тонкое различие между природой и ее собственной силой, не переставали трудиться над тем, чтобы снабдить эту силу тысячью непонятных качеств. Так как сила является просто модусом и поэтому ее нельзя увидеть, то они сделали из нее дух, разум, бестелесное существо, т. е. субстанцию, совершенно отличную от всего того, что мы знаем. Они не понимали того, что все их открытия, равно как и сочиненные ими слова, служили только маской фактического незнания и вся их мнимая наука сводилась к тому, чтобы путем тысячи экивоков высказать лишь то, что они не могут понять, как действует природа. Мы всегда заблуждаемся, когда не изучаем природы и хотим выйти за ее пределы; после таких попыток мы бываем вскоре вынуждены вернуться к ней или же подставить непонятные слова на место вещей, которые знали бы гораздо лучше, если бы хотели изучать их без предрассудков»104.
Гольбах совершенно точно видит проблему метафизики: все эти понятия, вроде духа или божества, лишены оснований. Предпосылки для метафизических выводов взяты произвольно. Метафизические предложения не сообщают нам никакого знания. Общие рассуждения о качествах бога не содержат никакого знания. Более того, конкретные качества бога, которые ему приписывают богословы, — это человеческие качества. Рассуждение о божественном замысле имеет в виду человеческую рациональность, что вдвойне забавно, если учесть, как плохо мы еще понимаем принципы собственной интеллектуальности. Гольбах и Монтень совершенно правы, когда говорят, что в основании христианства лежит антропоцентризм. Это справедливо для апофатического богословия, ведь бог Григория Паламы все равно есть, как это писал еще неоплатоник Плотин, благо само по себе. Даже в диалоге «Парменид» Платона скрывается все тот же антропоцентризм, ведь делать оценочное суждение в пользу бесконечного, а не конечности — вполне в духе смертного существа, каким является человек.
Таким образом, Гольбах видит в идее бога две составляющие:
1. Объяснение феноменов реальности, причин которых мы не знаем, — от первобытного мифа до античной метафизики;
2. Оценочно нагруженный образ «блага», в действительности внутренне противоречивый и берущий за образец тиранию.
Вот что в конце концов говорит Поль Анри Гольбах о божестве, и это кажется совершенно точной, последовательной и исчерпывающей характеристикой:
«Во всех странах люди поклонялись странным, несправедливым, кровожадным, неумолимым богам, права которых они никогда не осмеливались подвергать сомнению. Эти боги повсюду были жестоки, распутны, пристрастны; они походили на тех разнузданных тиранов, которые безнаказанно издеваются над своими злополучными подданными, слишком слабыми или слепыми, чтобы оказать им сопротивление и избавиться от гнетущего их ига. Такому же отвратительному богу заставляют нас поклоняться и ныне; бог христиан подобно богам греков и римлян наказывает нас в этом мире и будет наказывать в загробном за проступки, имеющие своим источником полученную нами от него природу. Подобно опьяненному своей властью государю, этот бог щеголяет своим могуществом и, по-видимому, поглощен лишь детским удовольствием показать, что он господин всего сущего и не подчинен никаким законам. Он наказывает нас за то, что мы не знаем его непостижимой сущности и загадочной воли. Он наказывает нас за прегрешения наших отцов; от его деспотических капризов на веки веков зависит наша судьба, в зависимости от его роковых повелений мы помимо нашей воли становимся его друзьями или врагами: он делает нас свободными лишь ради варварского удовольствия казнить нас за неизбежное злоупотребление свободой, вызываемое нашими страстями или заблуждениями. Наконец, теология показывает нам, что люди всегда подвергаются наказаниям за свои неизбежные, необходимые проступки, будучи как бы жалкими игрушками в руках злого и тиранического божества»105.
В целом «Система природы…» Гольбаха — масштабное, последовательное и выдающееся сочинение, рассматривающее целый ряд важнейших вопросов о религии, от вопросов происхождения религии до вопросов соотношения религии и морали. Сочинение не потеряло своей актуальности, его аргументы против религии по-прежнему вполне злободневны. Любая современная дискуссия об атеизме так или иначе затрагивает несколько вопросов, рассмотренных в «Системе природы…». Насколько мы говорим о религии сегодня в терминах Платона и Аристотеля, настолько же наши рассуждения об атеизме обязаны Гольбаху, хотя, разумеется, прогресс наук за последние столетия ставит современных публицистов, говорящих об атеизме, в значительно более выгодные условия, чем те, в которых писали авторы Просвещения.
Однако хочу отметить: атеизм эпохи Просвещения — это прямое следствие прогресса естественных наук. Ламетри, Кондорсе, Гольбах — эмпирики, подобно Юму или Локку. История становления науки, преодоления метафизики и религии не закончилась в эпоху Великой французской революции.
4. О познании и заблуждении. Как научный метод добился самостоятельности и превосходства
В эпоху Просвещения естествознание стало альтернативой догматическому философствованию, метафизическим спекуляциям и религии. Но роль науки на этом не заканчивается! Со временем наука стала чем-то гораздо большим, нежели просто ветвью философии и просто прикладными навыками. Один из самых важных тезисов данной книги заключается в том, что наука — это вовсе не альтернатива античной философии или религии, это особое качество знания, которое вообще лишает смысла любое религиозное противостояние . Подобные драматичные перемены приносит переход от эмпиризма Нового времени к аналитической философии XX века.
Переходным звеном между классическим эмпиризмом Нового времени, в том числе эмпиризмом Дэвида Юма, и современной аналитической философией, сопутствующей науке, стала работа известнейшего физика и философа Эрнста Маха «Познание и заблуждение». Я хотел бы сказать о ней пару слов потому, что в этом сочинении прекрасно излагаются принципы экспериментального познания.
Мах сводит познавательные способности к операциям мозга, совершаемым над содержимым памяти. Чувственные раздражители влияют на наш мозг потому, что в нашей памяти они связаны с опытом прошлого. Именно благодаря опыту прошлого, то есть воспоминаниям, мы умеем предсказывать новые события. В этом Мах развивает и доводит до совершенства мысль Юма. Мах очень важен и интересен для нашего разговора тем, что приводит замечательную модель редукции психической жизни человека к работе памяти:
«Итак, нет изолированных чувств, желаний, мышления. Ощущение, являющееся одновременно процессом физическим и психическим, составляет основу и всей нашей психической жизни. <…>
Внимательное наблюдение в себе процессов, которые мы называем соображением, решением, волей, знакомит нас с совокупностью очень простых фактов. Возьмем какое-нибудь чувственное переживание. Мы встречаем, например, своего друга, и он приглашает нас посетить его, отправиться с ним на его квартиру. Это переживание вызывает в нас разнообразные воспоминания. Последние оживают последовательно одно за другим, взаимно сменяясь и вытесняя друг друга. Мы вспоминаем остроумную беседу нашего друга, пианино, стоящее в его комнате, вспоминаем его превосходную игру на этом пианино. Но вот мы вспоминаем также, что сегодня вторник и что в этот день нашего друга обыкновенно посещает один сварливый господин. Мы с благодарностью отклоняем приглашение нашего друга и удаляемся. Каким бы ни оказалось наше решение, как в самых простых, так и в самых сложных случаях, оказавшие свое действие воспоминания таким же образом определяют наши движения, вызывая те же самые движения приближения и удаления, как соответствующие чувственные переживания, следами которых они являются. Не от нас зависит, какие воспоминания оживут и какие одержат победу. В наших произвольных действиях мы не менее автоматы, чем простейшие организмы»106.
Решение задач Мах описывает как мысленный перебор содержания воспоминаний:
«Другой тип потока представлений образует разрешение какой-нибудь загадки, геометрической или технической задачи, научной проблемы, осуществление художественного замысла и т. д., то есть движение представлений с определенной целью. Здесь отыскивается нечто новое, в данный момент известное лишь отчасти. Такой поток представлений, в котором не теряется из виду более или менее определенная цель, мы называем размышлением. <…>
Отыскиваемое в нашем размышлении представление должно удовлетворить известным условиям. Оно должно разрешить загадку или проблему, сделать возможной известную конструкцию. Условия известны, а само представление — нет»107.
Эти рассуждения, гипотезы об устройстве интеллекта остроумны и современны. Но важным для нашего разговора является то, что подобная логика — полная противоположность метафизической религиозной антропологии, в первую очередь — жизненно важного для христианства представления о свободе воли. Приводя объяснение решения естественно-научной или геометрической задачи простым перебором, лишь с последующей фиксацией в формуле или правиле, Мах прекрасно показывает и то, как устроен интеллект, и то, как метафизическое представление о рациональных законах Вселенной противопоставлено эмпиризму и научному методу.
Мысль Маха о том, что «сущность всякого решения проблемы в экспериментировании мыслями, воспоминаниями» — развитие логики Юма о получении нового знания из опыта. Что более важно, это важная догадка о природе интеллекта и интеллектуальных способностей: решение интеллектуальных задач есть не созерцание вечных идей, а комбинаторика содержимого чувственной памяти. Более того, Эрнст Мах излагает передовую по меркам своего времени нейробиологическую гипотезу, когда говорит о том, что выпадение функции какой-нибудь части коры мозга влечет за собой психические нарушения, что, в свою очередь, подкрепляет рядом замечательных примеров из современной ему медицины. В частности, его внимание привлекают нарушения функций мозга и поведения и заболевания вроде апоплексии или афазии, и в особенности люди с амнезией вследствие черепно-мозговых травм108. Эти удивительные примеры показывают, что человеческая индивидуальность — это прежде всего наши воспоминания, а память имеет органическую природу.
Но самым главным для нашего разговора является логически следующая из нейробиологической гипотезы мысль Маха о том, что под «человеческой волей» мы понимаем предсказуемое функционирование мозга.
«То, что мы называем волей, есть лишь особая форма вторжения временно приобретенных ассоциаций в раньше образованный устойчивый механизм тела. В условиях жизни несложных бывает почти достаточно одних прирожденных механизмов тела, чтобы обеспечить содействие всех частей последнего сохранению жизни. Но когда условия жизни более или менее сильно изменяются во времени и пространстве, одних рефлекторных механизмов оказывается недостаточно. Является необходимость в известной свободе размаха их функций, в расширении их пределов и возможности изменения их в этих пределах от случая к случаю. Эти, правда небольшие, изменения осуществляются ассоциацией, в которой выражается относительная устойчивость, ограниченная изменчивость условий жизни. Видоизменение рефлективных процессов, определенное доходящими до сознания следами воспоминания, мы называем волей. Без рефлекса и инстинкта нет и видоизменений их, нет и воли»109.
Все это важно потому, что теория научного познания, эпистемология, которая начала свой путь в работах эмпириков Нового времени, тесно связана с определенными представлениями о человеческой природе и интеллекте. Принимая плоды науки, такие как современная медицина или информационные технологии, мы принимаем научный метод. Принимая научный метод, мы принимаем научные данные о человеческой природе, включая наследственность и устройство мозга. Я не вполне согласен с Ричардом Докинзом в том, что эволюционная биология — это главный научный вызов религии. Религиозные апологеты могут себе позволить риторику современных католиков, которые признают животное происхождение человеческого тела, но настаивают на божественном происхождении души. Но от нейробиологии, получения доступа к содержанию нейронной памяти и открытий в области искусственного интеллекта религии нет укрытия. Новое направление в исследовании религиозности, нейротеология , как ее называет Эндрю Ньюберг, открывает секреты святая святых: природу так называемого религиозного опыта. Если нет метафизической «свободы воли» и нет неделимой, способной достигнуть «бессмертия» «индивидуальности», то нет и содержания у любого мыслимого религиозного мифа. Если религиозный опыт — это лишь состояние мозга, подобное результату воздействия наркотиков, такое состояние не может быть источником истины, лишь источником сильных эмоциональных переживаний.
Способности людей к абстрактному мышлению, воображению, выработке понятий дали человеческому виду преимущества. Но именно эти способности нашего мозга могут привести нас к саморазрушению. Чрезмерное увлечение абстракциями и воображением, такое как метафизическая философия, религия и эзотерика, радикальные идеологии или эскапизм, — это своего рода психическое нарушение или зависимость, подобная наркомании. «Развитие представлений сначала сопровождается преимуществами для органической и в особенности для растительной жизни. Но когда представления приобретают слишком большой перевес над чувственной жизнью, это может порой оказаться даже вредным для жизни органической. Душа превращается тогда в паразита тела — паразита, пожирающего, как выразился где-то Гербарт, масло жизни»110.
Богатство способностей нашего мозга полезно нам только тогда, когда служит нашим прагматическим целям. В конце концов, сознательная деятельность — это не единственные реакции, свойственные человеческому организму: «Все процессы жизни индивидуума суть реакции в интересах ее сохранения, и изменения в представлениях составляют только часть этих реакций. Существование известного вида живых существ показывает, что приспособления его, действующие в направлении его сохранения, удаются в достаточно преобладающем числе, чтобы обеспечить его дальнейшее существование. Что в физической и психической жизни бывают также реакции, которые не содействуют сохранению жизни, которые с точки зрения приспособления приходится признать неудачными, доказывает повседневное наблюдение. Физические и психические реакции определяются принципом вероятности. Приносят ли реакции пользу или вред, в особенности оказываются ли налицо биологически полезные или вводящие в заблуждение представления, в обоих случаях лежат в их основе одни и те же физические и психические процессы»111.
Итак, религию с позиции теории познания и нейробиологии можно рассматривать как дисфункцию человеческой способности к воображению. Религия — это набор не имеющих практического или эмпирического смысла преувеличений. «If you can dream — and not make dreams your master; If you can think — and not make thoughts your aim, — писал Киплинг. — Умей мечтать, но не позволяй воображению быть твоим господином». То же касается построения умозрительных конструкций в противоположность фактической действительности, будь то античная метафизика, дальневосточная эзотерика, марксизм, постмодернизм, городская легенда или теория заговора: «Когда мы смешиваем представления или понятия с фактами, мы более бедное, служащее определенным целям, отождествляем с более богатым и даже неистощимым»112.
«Экспериментальная наука построена совершенно иначе. Мы занимаемся физикой, когда исключаем вариации наблюдающего субъекта, удаляя их при помощи поправок или абстрагируя их каким-нибудь другим образом. Мы сравниваем физические тела или процессы друг с другом, так что дело сводится только к равенству и неравенству в реакции ощущения; особенность же ощущения не имеет уже значения для найденного отношения, выраженного в таких равенствах»113.
Итак, метафизика есть наиболее абстрактные (и наименее содержательные) представления, оторванные от первоначального опыта, где «представлением» мы называем архив чувственных данных нашего мозга. Наука использует понятийный аппарат и символическое выражение данных в целях экономии сил. Научные данные интерсубъективны, эксперимент может быть повторен независимо от наблюдателя, а отношения равенства и неравенства значений одинаковы для любого человека. Рассуждения античных авторов мы не можем назвать знанием, но конкретные экспериментальные данные — это, безусловно, новое знание. Практическое значение имеют только факты, а представления, понятия и теории важны постольку, поскольку позволяют предсказывать новые факты. Религия представляет собой множество представлений, утративших всякую связь с чувственными данными, совершенно абстрактных и совершенно пустых и бесполезных. При этом абстрактное мышление не является проблемой само по себе. Оно позволяет экономить силы, если применяется правильно — такова роль математики.
«…достаточно одного взгляда на алгебру и математический язык знаков вообще, чтобы убедиться, что сосредоточение внимания на мышлении, как таковом, символическое изображение абстрактных форм мыслительных процессов тоже имеет свою ценность. Тому, кто без этой помощи не может выполнить соответствующих мыслительных процессов, эти средства не принесут, конечно, пользы. Но когда дело идет о целых рядах умственных операций, в которых часто повторяются одни и те же или аналогичные мыслительные процессы, символическое осуществление их приносит значительное облегчение умственной работы и экономию энергии для применения ее в более важных новых случаях, с которыми невозможно справиться символически. Действительно, математики в своем математическом языке развили весьма ценную для своих целей логическую символику»114.
При этом Мах говорит далеко не только о «представлениях», потому что в итоге научное знание — это знание, выраженное в языке. «Приспособления мыслей, предпринимаемые индивидуумом в собственном интересе, могут происходить при содействии языка, но не связаны исключительно с ним. Но для того, чтобы этот процесс оказался полезным для общества, результат его должен найти словесное выражение в понятиях и суждениях»115, — Эрнст Мах подходит вплотную к лингвистическому повороту, который строго и логично отделил сферу философии (аналитической философии науки) от сферы гипотез естественных наук: теперь мы говорим не об интроспективных «представлениях», а о вполне объективном предмете анализа — предложениях, пропозициях. Именно аналитическая философия в работах Фреге, Рассела, Карнапа, Айера, Поппера строго и однозначно отделила естественно-научное знание и знание вообще от бессмысленных предложений, от метафизики.
5. Сила, покончившая с метафизикой. Аналитическая философия
Все, о чем было сказано выше, свидетельствует об одном: к упадку религии привела история становления логики и науки. Существование религии — это исключительно философская проблема, то есть проблема употребления понятий и логики. Архаичные верования существовали до Платона, но именно Платон и подобные ему авторы придали религии конкретную форму. Архаичные верования — это легенды, а развитая религия — это метафизика. Главным для меня в разговоре о религии является то, что религия существует лишь постольку, поскольку человеком могут быть заданы не имеющие смысла вопросы, на которые затем даются совершенно случайные ответы, и все это вместе позиционируется как истина. В противовес метафизике научное знание представляет собой лишь способ описания и предсказания конкретных фактов. Но каким образом отличить одно от другого? Ученые и философы Нового времени и Просвещения создали стандарт научного познания, который позволил нам эффективно получать новое знание, которое, в свою очередь, изменило нашу жизнь (отмечу, в англосаксонской традиции логическая философия, математика и естественные науки неразрывно связаны). Но была ли критика метафизики и религии такими авторами, как Бэкон, Юм, Гольбах и Мах, достаточной?
После Эрнста Маха силами таких авторов, как Бертран Рассел, Фридрих Фреге и Людвиг Витгенштейн, были заложены основания аналитической философии, которая получила свое наибольшее развитие в трудах Рудольфа Карнапа, Альфреда Айера и Карла Поппера. Современный атеизм, в том числе в трудах последователя Гильберта Райла и Альфреда Айера и соратника Ричарда Докинза Дэниела Деннета, является одним из следствий антиметафизической программы в аналитической философии. Разумеется, аналитика непосредственно опирается на эмпиризм Нового времени и неоспоримые успехи естественных наук, но в первую очередь сосредоточена на конкретной и эксклюзивной задаче — логическом анализе конкретных утверждений. Подобный метод, во-первых, не вмешивается в компетенцию естественных наук, поскольку имеет дело только с логическими характеристиками предложений, а во-вторых, позволяет подразделить утверждения на дескриптивные, теоретические, оценочные и метафизические. Это простое, ясное и строгое решение позволяет решить проблему религии и метафизики окончательно. Один только знаменитейший аргумент Карла Поппера о фальсификации достоин всей славы категорического силлогизма Аристотеля. Этот аргумент настолько прост, что может быть высказан вне контекста проблемы полноты индукции, с которой связан, и при этом позволяет безупречным образом отделить предложения, которые могут пройти проверку опытом, от предложений, сформулированных так, что их нельзя опровергнуть. Последние и являются основанием, сутью и содержанием каждой мыслимой религии в истории, но кроме религий лежат в основании и политической демагогии, и даже обычного мошенничества.
Прогресс логики и естественных наук подводит нас к простой мысли о том, что то, что в принципе не может быть окончательно проверено, является совершенной спекуляцией и злоупотреблением нашим вниманием. Рассуждения христианских священников и мусульманских имамов относятся к жанру метафизики. Решение проблемы метафизики особенно важно потому, что невозможно полностью и правильно описать атеизм, если ограничиться перечислением того, что было и что не было доказано научным путем. Одних данных естественных наук недостаточно, чтобы понять, что собой представляет религия.
Примером прекрасной работы, позволяющей начать знакомство с аналитической философией, является «Язык, истина и логика» Альфреда Айера. Некоторое утверждение имеет фактический смысл, если ясно, какие наблюдения при определенных условиях привели бы к принятию этого утверждения как истинного или ложного. Это единственная стратегия, которая позволяет успешно анализировать метафизические утверждения. Аналитическая философия XX века добавляет нечто новое к аргументам эмпиризма Нового времени , которые я перечислил раньше, поскольку эти аргументы при всей их откровенности не являются окончательным доводом против метафизики:
«Один из способов подвергнуть критике метафизика, утверждающего, что он обладает знанием о реальности, трансцендентной миру явлений, — это исследовать, из каких посылок выводятся его пропозиции. Разве он, как и другой человек, не должен начинать с очевидности своих ощущений? И если это так, то какой общезначимый процесс рассуждения способен привести его к концепции трансцендентной реальности?… Он сказал бы, что наделен даром интеллектуального созерцания, сообщающего ему способность знать факты, которые нельзя знать посредством чувственного опыта. И даже если можно было бы показать, что он основывается на эмпирических посылках и что поэтому его затея с внеэмпирическим миром логически неоправданна, то из этого не следует, что сделанные им утверждения относительно этого внеэмпирического мира не могут быть истинными. Ибо факта, что заключение не следует из предполагаемой посылки, недостаточно для демонстрации того, что заключение ложно. Следовательно, нельзя ниспровергнуть систему трансцендентальной метафизики, просто критикуя тот способ, которым она возникает. Скорее требуется критика природы охватываемых ею актуальных высказываний»116.
Логика Айера заключается в том, что проблема метафизики — это не проблема фактов, поскольку само отрицание некоего сверхъестественного мира есть утверждение, выходящее за рамки опыта. (В этом отношении аргументация Канта против трансцендентного знания сама по себе является метафизической.) Поэтому, кстати говоря, обычно и говорится апологетами религий, что отрицание существования бога — это религиозное высказывание (предмет веры). Однако логика естественной науки и познания идет гораздо дальше.
Аргументация Айера против метафизики вообще не утверждает ничего сверх опыта. Более того, она говорит только о том, что нам всем отлично известно: о логике, словах и предложениях.
«Критерий, который мы используем для проверки подлинности высказываний, кажущихся высказываниями о фактах, — это критерий верифицируемости. Мы говорим, что предложение фактуально значимо для любого заданного человека, если, и только если, он знает, как верифицировать пропозицию (здесь и далее пропозиция — это суждение, предложение), которую он намерен выразить, то есть если он знает, какие наблюдения при определенных условиях привели бы его к принятию этой пропозиции как истинной или к отбрасыванию ее как ложной. Если, с другой стороны, предполагаемая пропозиция такова, что допущение ее истинности или ложности совместимо с любым допущением, как бы оно ни относилось к природе его будущего опыта, тогда в той степени, в которой она его интересует, эта пропозиция, если она не тавтология, является просто псевдопропозицией. Выражающее ее предложение может быть для него эмоционально значимым; однако оно не имеет настоящего значения»117.
Нужно понимать, что имеются в виду теоретическая верифицируемость (а в дальнейшем и фальсифицируемость у Поппера). Вопрос не в том, какое предложение может быть проверено на практике, при помощи существующих приборов. Вопрос в том, какое предложение может быть проверено в принципе, в силу своего логического устройства. К примеру, как пишет Айер: «Простой и известный пример такой пропозиции — это пропозиция о существовании гор на обратной стороне Луны. Еще не изобретена (время написания книги) ракета, которая могла бы доставить меня на обратную сторону Луны, поэтому я не способен решить этот вопрос реальным наблюдением. Но я ведь знаю, какие наблюдения решили бы его для меня, если бы, что теоретически возможно, я был бы в состоянии их провести. Поэтому я говорю, что данная пропозиция верифицируема — если и не на практике, то в принципе и, соответственно, является значимой. С другой стороны, метафизическая псевдопропозиция вроде „Абсолют принимает участие в эволюции и прогрессе, но сам к ним не способен“ не является проверяемой даже в принципе. Поскольку нельзя представить наблюдение, которое позволяло бы определить, принимает участие Абсолют в эволюции и прогрессе или же нет»118.
Мне вспоминается широко известный «чайник Рассела», но в действительности это как раз неудачный пример, поскольку утверждение о затерянном где-то в космосе чайнике — проверяемое. Точнее, оно сформулировано таким образом, чтобы исключить проверку, но не во всех случаях.
Кроме этого, критерий верификации Айера сталкивается с той же проблемой полноты индукции, которая была свойственна еще для Бэкона: пропозиция, выражающая общий закон, не может быть подтверждена конечным множеством случаев. Альфред Айер был знаком с аргументом Карла Поппера, но не соглашался с ним. Вместо этого Айер сводит понятие верификации (обоснования) к вопросу о том, соответствовали ли какие-либо наблюдения определению истинности или ложности суждения.
Короче говоря, вопрос в том, можно ли представить себе какую-либо эмпирическую ситуацию, которая разрешила бы спор о конкретном утверждении. Честно говоря, логике Айера (равно как и логике всех логических позитивистов, включая Карнапа, Шлика и т. п.) не хватает как раз простоты аргумента Поппера. Но здесь важным является совершенно другое: Айер совершенно верно ставит проблему, хотя его решение не кажется наилучшим из возможных.
Проблема, которую логические позитивисты обнаружили, называется проблемой демаркации. Она заключается в том, чтобы отделить имеющие истинностное значение, то есть способные являться истиной или ложью предложения от предложений, которые не являются ни тем, ни другим, причем провести эту границу необходимо независимо от содержания таких предложений, на основании их логических качеств.
Иногда оба противоположных мнения о какой-то проблеме не являются ни истиной, ни ложью, поскольку вообще никак не соотносятся с опытом. В таком случае сама проблема является бессмысленной и ставить вопрос о ее решении является напрасным. Айер приводит замечательный пример о конфликте «идеализма» и «реализма»: условные стороны конфликта решают вопрос о том, является ли картина «совокупностью идей в представлении бога» или она «объективно реальна»? Ни то, ни другое утверждение нельзя соотнести с опытом, и каждое из них затрагивает метафизические проблемы «объективной реальности», «вещей самих по себе», которые существуют лишь постольку, поскольку мы определенным образом пользуемся нашим языком. Единственное, что можно осмысленно сказать, — описать конкретную картину в дескриптивных терминах протяженности, веса, формы и тому подобного. Разумеется, есть еще эстетическая или оценочная составляющая проблемы, но она так же не имеет отношения к фактам, о чем придется сказать немного ниже. Другой проблемой является знаменитая проблема Канта о Бытии.
В некоторых языках (но не в русском языке) предложения вида «предмет есть» и «предмет есть такой-то» похожи, однако на деле единственное их сходство заключается в том, что после подлежащего (субъекта предложения) следует непереходный глагол «есть». В предложениях настоящего времени русского языка не используется глагол, связующий подлежащее и сказуемое (как английский глагол to be в форме is или латинский esse в форме est). Предложение «я есть человек» звучит неестественно, чуть чаще используются предложения вида «я являюсь человеком», но «явление» уже ближе к «феномену». Проблема «Бытия» — это проблема латыни, романских и германских языков. Если на одном из таких языков утверждается, что «такой-то предмет есть вымышленный», то его вымышленный характер как бы связан с существованием в некотором качестве. Подобная проблема словоупотребления связана с более общей проблемой: суеверием, согласно которому все слова, которые мы используем, указывают на нечто реальное, а все предложения, которые построены по правилам грамматики, имеют смысл. При этом метафизика — это не художественный вымысел. Художественная литература является в общем случае ложью. Метафизик не собирается лгать и не собирается говорить бессмыслицу, когда берется за свое дело.
Вообще, анализ языка, предложений и словоупотребления — это и есть, по мнению аналитических философов, предмет философии. Задача, как я уже говорил, эксклюзивная, но при этом вполне прагматическая. Проблема метафизики — не единственная из проблем аналитической философии. Аналитическая философия может быть тесно связана с проблемой научного метода и математики, юриспруденции и филологии, истории и антропологии. Принципы естественных наук и проблема интерпретации конкретных феноменов, таких как коллапс волновой функции или существование запутанных частиц, принципы законотворчества и истолкования норм права, проблема природы математического знания и доказательства теорем, равно как и проблемы эстетики, этики и политики — могут вполне успешно и последовательно решаться в рамках аналитического метода. Критический рационализм Поппера открывает не только способ демаркации науки и метафизики, но и может позволить разделять открытые критике политические решения от категоричных идеологем. Было бы неверно сводить аналитическую философию только к позитивизму и проблемам метода экспериментальных наук. Альтернативный аналитической философии постмодернизм, на мой взгляд, зашел в тупик спекуляций и бессмыслицы, как об этом замечательно писали физики Ален Сокал и Жан Брикмон в сочинении «Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна».
Я говорю обо всем этом потому, что Айер уделяет особое внимание вопросу роли философии (по крайней мере, аналитической философии): эта роль заключается в прояснении высказываний, поиске способа переформулировать конкретное высказывание. Иногда это просто, если достаточно воспользоваться словарем и найти синонимы использованных понятий. Но иногда некоторые предложения необходимо перевести в другие предложения, которые не содержат ни исходных понятий, ни синонимов. В сущности, прояснение непонятного предложения — это выявление того, в каких ситуациях такое непонятное предложение употребляется. Почему это важно? Предложения о человеческой индивидуальности, сознании, душе и судьбе используют метафизические понятия, которые, как помните, пришли из платонизма. Но мы можем понять, что именно имеют в виду те люди, которые используют такие предложения: говорят ли они о поведении, о состоянии мозга, о содержании памяти?
Апологеты религий часто утверждают, что мы не можем обойтись без религиозных понятий, в особенности когда говорим о человеческой природе. Мы говорим о сознании, интенциях и воле, употребляем понятие «психология», произошедшее от платоновского «псюхе», но если переформулировать все подобные предложения в терминах бихевиоризма и физикализма, окажется, что мы ничем не обязаны ни Платону, ни отцам христианской Церкви. Мы говорим «об идеях», когда описываем память и речь. Память проще всего описать в терминах математики, назвав ее кодом — правилом, определяющим соотношение двух множеств. Одно из множеств содержит данные органов чувств, подобные сигналам датчиков, а второе множество содержит структуры мозга, кодирующие память. Воспоминание, соответственно, можно описать как декодирование, то есть сообщение в «сознание» аналогов данных органов чувств, реконструированных на основании структур мозга. Здесь много неясностей, в частности о каких именно структурах идет речь (уровень групп нейронов, отдельных нейронов или молекулярная структура вроде молекул РНК?), или что именно представляет собой «сознание», работу каких именно участков коры головного мозга, но общий принцип перевода «классических» предложений о человеческой природе на язык науки — понятен.
Я полагаю, что анализ предложений нашей культуры, при помощи которых мы описываем себя и наше существование, позволил бы нам прояснить, что именно мы сообщаем о себе, избегая бессмысленных терминов вроде «духовности», попытка прямой расшифровки которых приводит нас в замкнутый круг ничего не значащих понятий, подобный дурной норме плохо написанного закона.
Действуя подобным образом, анализируя предложения обыденного языка, литературы и религии, мы можем свести все фразы, которыми пользуемся, к фактам и конкретным данным (пропозициями опыта, протокольными предложениями или сингулярными высказываниями, как их иногда называют). Я полагаю, что именно отсутствие подобной ясности, неспособность людей оценить собственную речь и мысли и порождает «религиозную дискуссию». Люди попросту теряются, когда в ход идут религиозно-метафизические понятия вроде духовных скреп, Нравственности С Большой Буквы, а апологеты и пропагандисты пользуются этой растерянностью так же, как цыгане. Что, в итоге, есть мораль и нравственность, если не набор правил поведения, имеющих исключительно прагматические цели? Должны ли мы замирать перед Историей, Победой, Духовностью, Священным, или эти слова скрывают гораздо более мрачные и двусмысленные вещи, вроде войны, страха, преступности или человеческих жертвоприношений?
Подобное обращение философии к языку называют «лингвистическим поворотом». Проблемой эмпиризма Нового времени был его излишний психологизм, а психология интроспекции спекулятивна и построена на ненадежных основаниях. Рассуждения о психологии эксперимента замечательны, но могут быть лишь большой ошибкой. Когда мы сводим проблему познания до логики предложений и употребления понятий в том или ином контексте, мы сразу же получаем конкретный предмет исследования, не менее строгого, чем математика или юриспруденция. И именно лингвистический поворот дает нам ответ на вопрос о том, что такое религия, причем ответ, построенный не на наших домыслах о чем-то сверхъестественном вроде материи как таковой и идеального, как это было принято в советском «историческом материализме», а лишь на строгом анализе конкретных символов.
И именно здесь начинается современный атеизм, точнее, то, что Айер и Деннет называли «теологическим нонкогнитивизмом». Но об употреблении терминов (и политических ярлыков вроде Brights) я скажу чуть дальше. Пока перед нами самая главная проблема — проблема фальсификации .
6. Окончательное решение. Знаменитый критерий фальсификации Карла Поппера
Карл Поппер в своей работе «Логика научного исследования» называл самым важным отличием (основанием для демаркации) проверяемого и имеющего смысл для науки предложения от метафизического предложения фальсифицируемость. Критерий фальсифицируемости изначально был связан с проблемой полноты научной индукции, которая заключается в том, что никакое количество повторяющихся единичных наблюдений логически не влечет теоретическое утверждение о постоянстве или закономерности. Индукция казалась ученым надежным методом научного исследования со времен Фрэнсиса Бэкона. Что Поппер предложил взамен?
«Вывод обычно называется „индуктивным“, если он направлен от сингулярных высказываний (иногда называемых также „частными высказываниями“) типа отчетов о результатах наблюдений или экспериментов к универсальным высказываниям типа гипотез или теорий.
С логической точки зрения, далеко не очевидна оправданность наших действий по выведению универсальных высказываний из сингулярных, независимо от числа последних, поскольку любое заключение, выведенное таким образом, всегда может оказаться ложным. Сколько бы примеров появления белых лебедей мы ни наблюдали, все это не оправдывает заключения: „Все лебеди белые“»119.
Смысл проблемы в том, что сколько бы ни наблюдалось белых и только белых лебедей, утверждение о том, что все лебеди — белые, может быть опровергнуто демонстрацией одного-единственного черного лебедя. И хотя теоретически можно было бы перечислить каждого лебедя в мире, есть множество случаев, в которых полный перебор невозможен по очевидным причинам. Речь идет не о фактах и не о психологии исследования, а лишь о логических вопросах: «…можно ли оправдать некоторое высказывание? Если можно, то каким образом? Проверяемо ли это высказывание? Зависит ли оно логически от некоторых других высказываний? Или, может быть, противоречит им?»120
Поппер критикует принцип научной индукции не для того, чтобы лишить научное знание его особого логического статуса, а с противоположной целью: найти бесспорный логический критерий, отличающий науку от ненаучного знания вне зависимости от содержания научных суждений.
«Отбрасывая метод индукции, я, можно сказать, лишаю эмпирическую науку тех ее черт, которые как раз и представляются наиболее характерными для нее. А это означает, что я устраняю барьеры, отделяющие науку от метафизических спекуляций. Мой ответ на это возражение состоит в следующем: главной причиной, побудившей меня к отказу от индуктивной логики, как раз и является то, что она не устанавливает подходящего отличительного признака эмпирического, неметафизического характера теоретических систем, или, иначе говоря, подходящего „критерия демаркации“ »121.
Философские аргументы Поппера — наиболее важный поворот в логике научного исследования в XX веке. Он совершенно не похож на те принципы естествознания и философии XVII–XVIII веков (хотелось бы отметить, что анализ Поппера не отбрасывает индукцию как метод открытия. Доводы Бэкона, согласно которым мы открываем закономерность, обобщая единичные факты, остаются в силе. Разница заключается в том, что метод открытия не является методом обоснования. Тот способ, которым мы совершили открытие, не позволяет нам проверить наше открытие. Способом обоснования теоретических утверждений как раз и является метод Поппера).
«Позитивисты прежних времен склонялись к признанию научными или законными только тех понятий (представлений или идей), которые, как они выражались, „выводимы из опыта“, то есть эти понятия, как они считали, логически сводимы к элементам чувственного опыта — ощущениям (или чувственным данным), впечатлениям, восприятиям, элементам визуальной или слуховой памяти и так далее. Современным позитивистам удалось выработать более ясный взгляд на науку. Для них наука — не система понятий, а система высказываний. В соответствии с этим они склонны признавать научными или законными только высказывания, сводимые к элементарным (или „атомарным“) высказываниям об опыте — „суждениям восприятия“, „атомарным высказываниям“, „протокольным предложениям“ или еще чему-либо подобному. Очевидно, что подразумеваемый при этом критерий демаркации тождествен требованию построения индуктивной логики»122.
Помните тот «новый инструмент», о котором в противоположность аристотелевскому категорическому силлогизму писал Бэкон? Да-да, этот принцип естествознания недостаточен для того, чтобы обосновать разницу между научным знанием и метафизикой. Витгенштейну, Карнапу, Шлику и Айеру это не удалось, в этом можно согласиться с Поппером. Я прошу еще немного проследить за этой логикой, потому что за этой маленькой внутренней проблемой философов науки скрывается грандиозное логическое открытие, предельно простое и предельно эффективное.
Это решение — фальсифицируемость как критерий демаркации.
«Исходя из этих соображений, можно предположить, что не верифицируемость , а фальсифицируемость системы следует рассматривать в качестве критерия демаркации. Это означает, что мы не должны требовать возможности выделить некоторую научную систему раз и навсегда в положительном смысле, но обязаны потребовать, чтобы она имела такую логическую форму, которая позволяла бы посредством эмпирических проверок выделить ее в отрицательном смысле: эмпирическая система должна допускать опровержение путем опыта »123.
Выходит, что теоретические высказывания нельзя получить из высказываний о фактах. Но высказывания о фактах могут противоречить теоретическим высказываниям. Эмпиризм начиная с Бэкона никогда не отвечал на вопрос, что же на самом деле представляет собой индукция, каковы ее правила, что связывает высказывания о фактах и теории. Отмечу, что фальсифицируемость теории не означает ее фальсифицированность. Фальсифицируемость — это логическое качество предложения, а не онтологическое качество действительности. Проще говоря, принципы сохранения энергии фальсифицируемы. Можно представить себе утверждение о факте, которое бы опровергло эти принципы. Другое дело, что мы ни в коем случае не ожидаем нарушения этих принципов, поскольку эти принципы являются обобщением всего множества наблюдаемых нами фактов и всех других принципов, которые мы выводим из всего множества доступных нам фактов, включая причинность. Проще говоря, мы не можем экстраполировать последствия нарушения таких принципов. Но это уже разговор о реальности, а не о логическом качестве наших суждений и познавательных способностей. И реальность, если так можно метафорически выразиться, уже бросала нашей логике и нашему опыту вызовы, вроде квантовой запутанности.
Но не будем о квантовой механике и вернемся к логике и философии, а конкретно — к проблеме демаркации и критерию фальсификации. Можно подумать, что это очень специфическая логическая проблема научного метода, попперовское решение которой изящно, но бессмысленно за рамками камерной дискуссии о неполноте индукции. Но это совершенно не так!
Оказалось, что принцип фальсифицируемости, сформулированный Карлом Поппером, очень просто выразить вне контекста специальной философской дискуссии о научном методе: если для утверждения нельзя сформулировать условия возможного экспериментального опровержения, такое предложение является непроверяемым, то есть метафизическим124. Знаменитый пример Бертрана Рассела с «космическим чайником» (речь идет о знаменитейшем примере Рассела, согласно которому утверждение о существовании бога так же непроверяемо, как существование крошечного фарфорового чайника, находящегося на орбите вокруг Солнца где-то в Солнечной системе — он так мал, что его невозможно обнаружить в самый мощный телескоп) можно назвать публицистическим раскрытием принципа демаркации Карла Поппера, хотя лишь при определенных самим Расселом условиях. Очевидно, что при некоторых условиях (отправка космического корабля с чувствительными датчиками) можно проверить утверждение в определенной точке пространства «маленького чайника». Короче говоря, несчастный чайник повис в чистилище для не слишком удачных примеров, где-то на полпути между «мемом» и логическим доказательством. Но существуют такие утверждения, которые в силу самой своей формы вообще исключают проверку. Ироническим отражением таких утверждений являются пародирующие религии утверждения о «Летающем Макаронном Монстре» или «Невидимом Розовом Единороге». В этих случаях за комической формой скрывается важный эпистемологический аргумент.
Для любого общего утверждения любой научной теории можно представить условия опровержения. Но метафизическое утверждение — это такое утверждение, которое нельзя опровергнуть в принципе. С точки зрения логического позитивизма, у него нет истинностного значения, оно не является ни истиной, ни ложью . По сути дела, метафизическое утверждение является буквальной бессмыслицей . С точки зрения критического рационализма, такое утверждение не является знанием (ведь научное знание по крайней мере может оказаться ложью).
Короче говоря, что не может быть уличено во лжи — то не предмет серьезного спора, не новое знание и не аргумент.
В этом и заключается главное философское начало современного атеизма: все множество утверждений, составляющих содержание христианства, или буддизма, или ислама, или любой другой религии, для научного метода буквально не имеют смысла. Философский атеизм (но имеет ли смысл на этом этапе вообще пользоваться словом атеизм?) не отрицает отдельные религиозные утверждения, такие как утверждение о всеобщем Спасении или об антиномической природе Христа, а лишь находит их все в совокупности не имеющими смысла. Более того, для подобной логики нет принципиальной разницы между религиями, метафизическими философскими системами, вроде того же платонизма или дуалистических представлений Декарта о материи и разуме, современными городскими легендами, суевериями, народными мифами, магией и лженаукой.
Что касается тех сверхъестественных утверждений, которые могут быть ложью, то их можно проверить.
Все эти феномены вместе взятые есть лишь продукт способности мозга к воображению с точки зрения нейробиологии и продукт злоупотребления языком с точки зрения аналитической философии. Становление естествознания в Новое время раз и навсегда меняет отношение человечества к этим фикциям.
7. Заключение. Логическое соотношение религии и науки
Между метафизической логикой, присущей религии, и познавательными принципами, частным следствием которых является атеизм в наиболее общем смысле слова, есть качественная разница.
С одной стороны — религии. Конечно, религии различаются, и архаичное наследие иудаизма, напоминающее культ предков иудейского народа, совершенно непохоже на христианство времен развитого богословия и святоотеческих диспутов, а буддизм совершенно непохож на авраамические религии в целом. Вместе с тем у религий в их современном виде есть общие метафизические мотивы, да и сама наша способность говорить о религии определяется этими метафизическими тропами. У всех этих тропов: о бессмертной душе, содержащей идентичность, о разумном устройстве мироздания, о целях и причинах человеческой жизни, — античное происхождение, которым коллективная память человечества обязана таким философам, как Платон и Аристотель. И когда мы исследуем творчество этих античных авторов, мы видим, что метафизика в основе религий и, в более широком смысле, в основании всей классической культуры — есть лишь случайное сочетание бессмысленных фикций, не имеющих никакого отношения к нашим познавательным способностям. В том логическом фундаменте, который неявным образом является присущим любому разговору о религии, нет ничего общечеловеческого и вечного. Все эти вечные вопросы не являются ни вечными и ни вопросами. На самом деле, это лишь частности одной определенной эпохи, представляющие для нас сегодня лишь незначительный интерес. Все то, что собой представляет любая религия, вторично и неинтересно.
Подчеркну: мы знаем , как устроена религия. Это не вопрос отвлеченных убеждений или веры. Это вопрос знания и логики. В отличие от апофатического божества (которое по определению должно быть таинственным) религиозные тексты, догмы и идеи вполне доступны для нашего с вами изучения. На самом деле мы знаем о религии очень много! Мы знаем ее происхождение, ее историю, ее логику и ее последствия. Религия человечества — это открытая для ученых и историков книга. В феномене религиозности нет ничего загадочного, величественного и непостижимого. Напротив, религия обычна и предсказуема, иначе бы огромное количество людей не были бы членами духовенства или главами сект. Не будь религия предсказуемой, прихожане не узнавали бы «вечные» религиозные аргументы, и вся апологетика мира была бы напрасной.
С другой стороны, мы имеем науку. Наука — это, пожалуй, единственный бесспорный успех человеческого вида. У науки есть познавательные принципы, прямо противоположные всему тому, что собой представляет метафизика. История философии науки учит нас, что не все слова имеют эмпирическое значение. Не все предложения имеют истинностное значение. Не на каждый вопрос можно дать осмысленный ответ. Таковы выводы философии науки, прошедшей путь от эмпиризма Бэкона до критического рационализма Поппера. Научный метод — это единственный способ устанавливать факты, проверять предположения и получать знания, сооружать машины и добиваться практических результатов. Этот метод не имеет никакого отношения к догмам. Он не служит обоснованию пошлых моральных максим. Вся наша практическая деятельность, от инженерии до медицины и от архитектуры до криминалистики, основывается на научных принципах. В современном мире можно отказаться от религиозной веры, точно так как изменить художественные вкусы, но отказаться от методов науки — нельзя. Можно игнорировать обряд причастия, но нельзя игнорировать знание об электрическом токе (людям не обязательно помнить школьную программу о параллельном и последовательном соединении, постоянном и переменном токе, о сопротивлении проводников и силе тока, достаточно лишь помнить, что такое удар током и почему работает освещение).
Поэтому атеизм принципиально отличен от религии ровно настолько, насколько экспериментальный научный метод отличен от метафизического философствования. Атеизм не имеет ничего общего с метафизическими по своему характеру убеждениями о целях или причинах существующей Вселенной или человеческой жизни, равно как и с убеждением об отсутствии подобных причин и целей, — каковыми атеизм чаще всего представляют себе верующие люди. Такие убеждения являются для атеиста не достоверным и полезным знанием, а произволом воображения и результатом злоупотребления языком, лежащим вне истины или лжи. В этом атеизм — не альтернативная религиям система метафизических убеждений, а лишь простое следствие лингвистической и логической критики метафизики. Научный метод исключает ту метафизику, которая лежит в основании религии. Атеизм в наиболее общем смысле — лишь прямое и неизбежное следствие научного метода наряду с многими другими следствиями.
***
Итак, мы пришли к определенным выводам. Теперь мы знаем цену догмам и метафизике. Мы больше ценим проверяемое знание и критику, нежели категоричные утверждения. Критическая рациональность Карла Поппера ценнее для нас, чем схоластические упражнения Фомы Аквинского. Но что это значит для нашей жизни? К каким политическим, культурным, моральным выводам мы можем прийти на основании тех абстрактных эпистемологических предпосылок, что лежат в основании критики метафизики? Вот о чем пойдет рассказ дальше.
III. По ту сторону метафизики. Об аргументах науки
Machines we are sending to the skies
Above us all
Laibach. «B Machina»
Наука — единственное бесспорное и однозначное достижение человеческого вида. Наша способность целенаправленно действовать методом проб и ошибок сопоставима по значимости лишь с нашей способностью к речи. Бесполезно сравнивать плоды сверхъестественных верований или категоричных идеологий и плоды точного и достоверного знания. Те объективные блага, которые несет прогресс естествознания, медицины и прикладных технологий, невозможно ни недооценить, ни игнорировать. Более того, цивилизация в ее современном виде не смогла бы выжить без плодов прогресса. Повседневное существование каждого человека на планете зависит от них. Ни один режим, даже теократический, не способен отказаться от битвы за технологические достижения: прогресс военных технологий не оставляет аутсайдерам ни малейшего шанса. Ракета есть ракета, будь она собрана в США, КНДР или Иране. Впрочем, именно создание самого разрушительного оружия в истории человеческого вида, как и предполагал Альфред Нобель, привело к тому, что в мире уже на протяжении более 60 лет нет места мировым войнам. Наука целиком изменила все аспекты человеческого существования, включая коммуникацию, войну, медицину и качество жизни, производство, и теперь, вооруженная средствами генной инженерии, нейробиологии и кибернетики, стоит на пороге изменения самой человеческой природы.
На протяжении последних столетий традиции, мифы, суеверия и религии ведут безнадежный бой с прогрессом. Доказательная медицина оставила за традиционным целительством нишу туристического аттракциона в лучшем случае и опасного для здоровья мошенничества в худшем случае. Представление о магии, определявшее быт архаичных племен Африки и Южной Америки и наводившее подлинный ужас на крестьян феодальной Европы, превратилось в мотив развлекательной литературы и кино — о школах для юных чародеев и поединках на волшебных палочках. Средневековый фольклор, рассказы у костра на ночной границе леса и деревни сменились городскими легендами, циркулирующими на тематических сайтах. Неудивительно, что апологеты религий мучительно ищут способы адаптировать свои убеждения к новым условиям, при этом стремясь любыми правдами и неправдами заручиться поддержкой хотя бы некоторых ученых мужей при помощи столь незамысловатых приемов, как награждение премиями вроде премии Темплтона. Но это напрасные, обреченные усилия. Там, где распространяются просвещение и научное знание, несущие с собой цивилизованную политическую систему, рациональный подход к человеческой природе и качество жизни, религия умирает.
Однажды католическая церковь выступала против гелиоцентризма и учения о двух кругах кровообращения, но сегодня это уже не так актуально. Даже конфликт мифа о творении и эволюционной биологии некоторые богословы уже готовы оставить в покое. На повестке дня — биоэтика и генетика, вопросы нейробиологии, природы человеческого и искусственного интеллекта.
Как я уже говорил, религия имеет метафизическую структуру, которая не подлежит научной проверке, но именно поэтому и не представляет для нас интереса. Но кроме этого религиозные учения содержат вполне проверяемые утверждения, и каждое из подлежащих проверке религиозных утверждений о фактах оказывается ложным.
1. Биологическая эволюция: вероятность и телеология
Первый серьезный конфликт науки и религии, актуальный по настоящее время, связан с изложенным в Торе мифом о сотворении мира иудейским богом Яхве за шесть дней. Миф о сотворении связан с иудейской библейской хронологией, согласно которой мир был сотворен в 3761 году до новой эры (существуют несколько способов исчисления даты, но это наиболее распространенный вариант). Буквальное понимание иудейского писания, согласно которому мир был создан 5772 года назад в течение шести дней, очевидным образом противоречит научной геологической и астрофизической датировке, согласно которой Земля существует 4,5 миллиарда лет, а наблюдаемая Вселенная — предположительно 13,7 миллиарда лет. По этой причине среди иудеев и христиан есть как сторонники буквального прочтения культовых текстов, так и сторонники аллегорического их истолкования, воспринимающие, например, дни сотворения как этапы или эры.
Но вопросы датировки далеко не так важны и интересны верующим, как вопрос о происхождении видов, и в особенности вопрос о божественном замысле. Противоречие между мифом о сотворении и данными эволюционной биологии породило понятие «креационизма», то есть рассуждений на основании мифов и метафизики, постулируемых как «научная теория». Если вы проследили за становлением логики философии науки, вы понимаете, в чем здесь подвох. Проблемы креационизма начинаются с его метода: в основании этого убеждения положены непроверяемые и произвольно взятые догмы, а факты отбираются в целях обоснования первоначальных постулатов. Уже на этом этапе становится очевидным, что аргументация сторонников сотворения не имеет отношения к естественной науке в принципе. С точки зрения логики креационизм — это вообще не теория. Это миф.
Последним воплощением креационизма является идея «разумного замысла», в англоязычной среде именуемая intelligent design, известнейшим сторонником которой является американский биолог Майкл Бихи, один из тех крайне немногочисленных ученых, кто придерживается религиозных и консервативных убеждений, своего рода маргиналов от науки. В целом же научное сообщество считает идею «разумного замысла» и креационизм формами лженауки, наряду с извечными попытками создания «вечного двигателя» или наукоподобными рассуждениями о «торсионных полях». Однако в отличие от «геологии Потопа» и подобных креационистских фальсификаций начала XX века идея «разумного замысла» включает любопытную математическую и философскую путаницу, которая весьма красноречива для наблюдательного исследователя.
Аргументы Майкла Бихи замечательны, поскольку иллюстрируют все философские проблемы, о которых я говорил в первой части книги. В подтверждение моих слов я сошлюсь на анализ, осуществленный математиком Марком Перахом в его статье «Разумный замысел или слепая случайность? Схватка двух мировоззрений»125. Как и в случае нашего разговора о логике научного метода, здесь пойдет речь не о вопросах сверхъестественного порядка, а лишь о строгой дедукции.
Первая и наиболее важная проблема Бихи и вместе с ним многих сторонников креационизма, как это демонстрирует Перах, заключается в том, что они совершенно неверно понимают принципы исчисления вероятности . Во-первых, чаше всего величина вероятности отражает незнание ситуации. Если мы не знаем конкретных условий протекания определенных химических реакций (например, синтеза определенных органических молекул), то мы говорим о вероятности. Количество химических реакций, возможных вообще, в любых условиях , колоссально, и величина вероятности протекания одной отдельно взятой реакции вообще может исчисляться нами как крайне малая (просто потому, что такова пропорция единственного искомого варианта к бесконечному количеству альтернативно возможных). Вместе с тем конкретные химические реакции в конкретных обстоятельствах могут быть крайне вероятны или вообще могут исключать альтернативу. Нет причин, по которым при смешивании кислоты с основанием в пробирке не произойдет реакции нейтрализации, с образованием соли и воды. Во-вторых, вероятность события 1/N не означает, что событие произойдет через N повторений условий. В лотерее с выигрышным шансом 1/1000 выигрышным может оказаться самый первый билет, а в лотерее с шансом 1/10 можно участвовать тысячи раз, ни разу не выиграв. По величине вероятности нельзя предсказать результат каждого конкретного розыгрыша. Но самым важным является заблуждение Майкла Бихи в том, что события, расчетная вероятность которых крайне мала, практически не происходят. Перах пишет: «Это утверждение, нередко приводимое противниками самозарождения жизни, абсурдно. Если рассчитанная вероятность некоего события S равна 1/N, это означает, что при расчете вероятности предполагалось, что были равно возможны N различных событий, одно из коих было событие S. В таком предположении вероятности каждого из N возможных событий были одинаковы и равны каждое весьма малой величине 1/N. Если событие S не произошло, то не из-за его очень малой вероятности, а просто потому, что некое другое событие, T, чья вероятность была столь же мала, как и для S, произошло взамен. Существенный факт состоит в том, что вероятности всех предположительно возможных альтернативных событий одинаково малы. Если принять утверждение Бихи, что события, чья вероятность исчезающе мала, практически не происходят, то пришлось бы заключить, что ни одно из предположительно возможных N событий не может произойти, ибо все они имеют ту же самую крайне малую вероятность. Абсурдность такого вывода очевидна». К сказанному Перахом добавлю, что вероятность — это не предмет и не метафизическое нечто (подобно аристотелевской причинности), а лишь математическая абстракция, численная пропорция искомых элементов множества к их общему количеству. Например, мы говорим о вероятности в случае, если не знаем, в какой из двух горстей монет находится юбилейная монета. Если одна горсть в два раза больше второй, то мы считаем, что вероятность отыскать юбилейную монету в первой составляет 2/3, а во второй 1/3. Но в действительности монета, которую мы потеряли, находится либо там, либо там, и наше исчисление вероятности никак не влияет на этот факт. Вероятность нужна нам самим, чтобы экономить наши усилия. Если бы знали местонахождение этой монеты, мы бы вообще не говорили о вероятности.
По логике Майкла Бихи, малая вероятность самопроизвольного формирования белков, молекул ДНК и РНК, механизмов их репликации заключается в их сложности . То есть сложность устройства живых организмов является, по мысли Бихи, свидетельством их искусственного происхождения . При этом ни Майкл Бихи, ни автор, на которого он ссылается, математик и философ Билл Дембски, не дают удовлетворительного определения понятия «сложности». Перах предлагает свой вариант определения сложности, согласно которому чем больше число компонентов система включает и чем большее имеется взаимодействий между этими компонентами, тем система сложнее, но утверждает, что соотношение вероятности самопроизвольного образования системы и сложности данной системы противоположна: чем сложнее система, тем вероятнее она возникла самопроизвольно. И с этим трудно не согласиться.
Во-первых, события, вероятность которых крайне мала, происходят каждую секунду. Вероятность того, что жизнь конкретного человека сложится к настоящему моменту именно так, как она сложилась, и никак иначе, — исчезающе мала, поскольку человеческая жизнь состоит из сотен тысяч ежедневных событий. Но при этом вероятность для каждого конкретного события в конкретных условиях может быть крайне велика или неизбежна. Если судьба не складывается одним образом из-за одного-единственного события, то она складывается другим образом. При броске монеты вероятность выпадения конкретной стороны монеты («орла» или «решки») составляет 50 %, 1/2, но если бросить монету сотню раз, можно получить уникальную комбинацию, вероятность выпадения которой 1 к 2 в сотой степени! Вероятность выпадения каждой из возможных комбинаций исчезающе мала, но одна из возможных комбинаций выпадет неизбежно. То есть сама по себе малая вероятность совершенно не исключает случайности. Дембски в своей работе «Разумный замысел» не оспаривает это и в качестве дополнительного критерия к вероятности события добавляет понятие «специфического формата». Некоторое сочетание элементов должно быть не только достаточно сложным, то есть включать множество элементов и поэтому иметь малую вероятность выпадения при простом переборе, но быть «специфичным», как фраза, состоящая из последовательности букв и имеющая смысл. Но что вообще означает эта «специфичность» и что такое «смысл»? Как мы распознаем «специфику» и наличие «смысла»? Очередная философская проблема! Марк Перах утверждает, что фильтр Дембски (отбор сложных последовательностей элементов, имеющих «специфический формат») может давать не только ложные отрицания (например, неспособность распознать предложение в последовательности букв, — на незнакомом языке), но и ложные утверждения, то есть усматривать «замысел» там, где «замысла» нет (как это могут делать гаруспики и гадатели на кофейной гуще). С этим невозможно не согласиться: человеческий мозг может усматривать «смысл», «рисунок» или «замысел» в совершенно случайном сочетании элементов и при этом может воспринять надпись на незнакомом языке как случайную последовательность букв. Вопрос механизма распознавания выходит за рамки математической теории вероятности, и все сторонники креационизма не способны объяснить подробно, что значит «распознавание» вообще, чем оно определяется и каким образом.
Что еще более важно, что сторонники убеждений о разумном замысле затрудняются ответить на самый простой вопрос: что такое разум, интеллект, интеллектуальные способности ? Следует ли понимать разум как уникальную метафизическую сущность в духе Платона, как картезианский субъект или же это набор конкретных способностей человеческого мозга? И если верно последнее, то какие именно способности мозга и каким образом делают человеческое поведение «разумным»? Только ответ на этот вопрос может позволить осмысленно и однозначно отделять наличие «интеллектуального замысла» от случайности, но сторонники креационизма вообще игнорируют проблему природы интеллекта, принимая как должное смутную догадку, построенную на собственных привычках.
Представляется необходимым предположить следующее: если эволюционный процесс в наиболее общем виде представляет собой случайный перебор (неопределенная изменчивость) с неслучайным запоминанием, где фильтрами служат естественный и половой (у соответствующих жизненных форм) отбор, то инженерия перебирает варианты конструкций неслучайным образом. Вспомните, что Эрнст Мах в сочинении «Познание и заблуждение» утверждал, что люди пришли к способности решать математические и геометрические задачи путем перебора, но затем выделили конкретные качества, которые необходимо и достаточно определяют каждое требуемое решение. Это позволяет нам экономить наши силы и время, используя однажды найденное решение снова. Человеческому мозгу достаточно выделить требования к характеристикам результата, чтобы затем систематически искать подходящий результат по этим ключевым характеристикам, что является экономией сил за счет сокращения времени перебора и ведет к ускорению процесса. В ходе естественного отбора закрепляется способный существовать для данных конкретных условий вариант генотипа, даже если с точки зрения инженера такой вариант не был бы оптимален (с точки зрения целей инженера). Человек может перебирать решения в памяти, а эволюционный перебор — всегда натуральный. Люди действовали бы так же неэффективно, как эволюция, если бы конструировали предметы, пытались бы ими пользоваться, а затем отбирали бы только те предметы, которые справляются с задачей лучше других. После чего снова бы конструировали бы следующее поколение на основании отобранных предметов. Эволюция с человеческой точки зрения вообще медленный и неоптимальный процесс: она занимает миллиарды лет! Можно вообще сказать, что особенность появившихся естественным образом форм жизни заключается в чрезмерной сложности. Человеческий мозг способен задать цели инженерии и сравнить несколько вариантов конструкции из числа пригодных для достижения заданной цели, выбрав наиболее простой. С этим бы согласился и Марк Перах, который также приходит к выводу о том, что интеллектуальное решение — это наиболее экономичный, наиболее простой способ достичь определенной цели . Интересно отметить, что Ричард Докинз в качестве доказательства естественного происхождения живых организмов обращал внимание именно на их чрезмерную, иррациональную сложность, — когда участвовал в препарировании жирафа и обратил внимание на то, как устроен возвратный гортанный нерв жирафа: «Возвратный гортанный нерв (лат. nervus laryngeus recurrens) — ветвь блуждающего нерва (десятая пара черепномозговых нервов), которая обеспечивает двигательную функцию и чувствительность структур гортани, в том числе голосовых складок… Общая длина возвратного нерва может достигать четырех метров, так как он проходит через всю шею туда (в составе блуждающего нерва) и обратно (как самостоятельный возвратный нерв), при том что расстояние от мозга до гортани составляет всего несколько сантиметров »126. Если бы жирафа создал божественный инженер, его (божественного инженера, не жирафа) подняли бы на смех любые автомеханики. Эволюционный процесс закрепляет рудименты и атавизмы, то есть морфологические черты, доставшиеся современным организмам от предков, а человеческий инженер устранил бы из конструкции устаревшие и не играющие более роли решения (было бы странно представить реактивный самолет с рудиментарным пропеллером).
Вторым отличительным признаком искусственного устройства, помимо наибольшей возможной простоты, является наличие цели. Из анализа понятия цели у Аристотеля, приведенного выше, очевидно, что цель — это не самостоятельная метафизическая «причина», присущая любой вещи так же, как материальность и форма, а лишь абстракция человеческого мозга. У биологической эволюции нет цели. Мы можем приписывать событиям цель, но утверждение о телеологическом характере эволюционного процесса или истории невозможно опровергнуть, подобное утверждение — метафизическая фикция.
Вот главные философские аргументы об эволюции живых организмов. Конечно, чтобы стать биологом, необходимо владеть гораздо большим объемом знаний. Современная эволюционная биология — это даже не отдельная теория, а целое направление биологии, смежное с палеонтологией, генетикой популяций, эмбриологией, молекулярной биологией. Когда же речь заходит о современной теории эволюции, имеется в виду синтетическая теория эволюции, в которой теория происхождения видов путем естественного отбора Дарвина объединена с принципами наследственности, открытыми Менделем, и генетикой, которая получила развитие после открытия Уотсоном и Криком структуры молекулы ДНК. Когда речь заходит о том, что теория эволюции — «всего лишь теория» (как это любят повторять верующие люди), следует понимать, что в науке вообще все утверждения относятся только к двум возможным типам: это теоретические высказывания и высказывания о фактах. Теоретические утверждения (пропозиции) обобщают сингулярные (или протокольные) высказывания, то есть единичные высказывания о конкретных фактах и предсказывающие новые результаты наблюдений. Критерием научности теории является наличие у ее пропозиций истинностного значения — фальсифицируемость, то есть способность предложений теории оказаться ложными при вполне конкретных условиях. Критерием прагматической полезности теории пропозиций является точность предсказания, повторяемый эмпирический результат. То есть утверждения о том, что солнце взойдет на следующий день, или о том, что брошенный предмет затем упадет, являются теоретическими. Любое человеческое предсказание получения опытных данных, выраженное предложением в будущем времени, строго логически высказыванием о факте не является.
Есть огромное количество опытных закономерностей, оспаривать которые верующие люди просто не могут, потому что это физически невозможно или смертельно опасно. Ни один вменяемый человек не решится проверить утверждение о том, что столкновение с достаточно быстро движущимся автомобилем повлечет за собой травмы, не совместимые с жизнью. При этом естественно-научные теории гораздо сложнее умозаключений здравого смысла, и в их составе есть отдельные утверждения, которые могут быть скорректированы в результате постановки экспериментов. То есть научные теории открыты для корректировки, если наука получит необходимые и достоверные опытные данные. У естественных наук нет проблем с освоением нового опыта, как это было в случае с рентгеновским излучением. И конечно, любые пропозиции естественно-научных теорий могут быть фальсифицированы (принципы термодинамики по своей логической форме могли бы быть фальсифицированы демонстрацией аномалии «вечного двигателя»). Поспешу заметить, эта логическая возможность не говорит ничего о действительности, лишь о предложениях человеческого языка. Если подумать, даже мысленное допущение нарушения принципов сохранения влечет не меньшие парадоксы, чем мысль о путешествии назад во времени. Впрочем, и причинность, которую нарушает мысль о путешествиях во времени, сама по себе не проистекает из фактов… мы живем в мире, где были доказаны обратимость коллапса волновой функции и кажущийся парадоксальным «чудовищным дальнодействием» факт квантовой телепортации. Так что кто знает?
Теория эволюции предсказывает и позволяет объяснить колоссальное количество опытных данных из самых разных отраслей биологии. И хотя отдельные положения современной эволюционной биологии могут быть скорректированы в будущем, когда будут получены новые, более точные данные, а среди специалистов имеют место споры об особенностях эволюционного процесса (пример — дискуссия о «прерывистом равновесии»), теории эволюции в целом в науке нет альтернативы.
Большинство креационистских аргументов против теории эволюции не выдерживают простейшей критики. Попытки христиан утверждать об отсутствии «переходных форм» сталкиваются с демонстрацией все новых и новых палеонтологических находок. Некоторых непреклонных креационистов это не убеждает, но здесь все дело в том, что верующие понимают биологические таксоны, такие как роды и виды, реально существующими, подобно категориям Аристотеля. Они не вполне понимают, что биологический вид — лишь теоретическое обобщение . Граница вида как таксономической единицы условна и является лишь способом различать особи на основании некоторых признаков, например скрещиваемости, как это предложил Эрнст Майр. Очевидно, что подобный критерий не годится для видов, способных к бесполому размножению или гибридизации (вот почему в микробиологии есть понятие штамма). Другим примером условности видовых границ является цепочка соседних популяций: особи двух соседних популяций могут скрещиваться и давать плодовитое потомство, но особи двух крайних (удаленных географически) популяций на это не способны. И где в данном случае граница вида? В конце концов, риторический прием верующих людей, которые называют любую демонстрируемую им особь представителем «отдельного вида», а не «переходной формой», можно легко парировать: где среди существующих пород собак «переходные формы»? Где «переходные формы» между китайской хохлатой собачкой и кавказкой овчаркой? И хотя прекрасно известно, что современные породы собак не были созданы иудейским или индуистским божеством, а были получены путем селекции, совершенно любую особь можно с упрямым видом называть «отдельной породой»!
В заключение просто необходимо сказать, что сам эволюционный процесс является наблюдаемым фактом , как и химическая реакция окисления или падение брошенного предмета. Разумеется, эволюционный процесс млекопитающих может стать очевидным лишь на протяжении множества поколений, а человеческому наблюдателю пришлось бы жить тысячи или даже сотни тысяч лет, чтобы проследить становление новых видов зверей собственными глазами, но вот эволюционное приспособление бактерий можно наблюдать в течение значительно более короткого периода времени. Причем списать все на разницу «микроэволюции» и «макроэволюции» невозможно, именно потому, что в микробиологии трудно провести конвенциональную видовую границу, и на глазах исследователей может появиться новый штамм. Это, увы, создает ощутимые проблемы для медицины и обывателей-пациентов, поскольку новые штаммы могут быть резистентными к используемым антибиотикам.
Эволюция конкретных жизненных форм таким образом — факт.
2. Природа интеллекта: дуализм разума и тела
При всем вышесказанном естественно-научные данные об эволюции живых организмов не являются для религии непреодолимым препятствием. Любой достаточно изобретательный богослов может легко признать теорию эволюции, не поступившись особо своими убеждениями: достаточно просто назвать эволюцию «инструментом бога». Если еще святым отцам Церкви вроде Оригена или Климента Александрийского не было трудным допустить аллегорическую природу сюжета о шестидневном сотворении, то и признание сотворения человека из красной глины легко можно окрестить «богословской аллегорией». Святой престол Ватикана уже признал эволюцию, да и некоторые православные богословы вроде Андрея Кураева к этому вполне готовы.
Однако есть естественно-научные представления, которые делают невозможным и бессмысленным само основание религии как таковой: это проблема природы интеллекта и сознания. Христианская патристика, как это уже было сказано, заимствует очень многое у эллинской метафизики, в особенности у Платона. Именно Платон является автором рассуждений об абстрактном Благе, о соотношении идеального и чувственного миров и о бессмертной нематериальной душе, содержащей индивидуальность (дух в иудаизме и в раннем эллинизме понимался буквально, как дыхание, прерывающееся со смертью). Для христиан принципиально важен незначительный метафизический нюанс, отличающий их от платоников и прочих «гностиков»: в патристике источником искажения блага является иудейское грехопадение, а не материя сама по себе, и телесность также составляет часть индивидуальности; для стороннего наблюдателя это различие между каноном и ересью незначительно. Буддизм с присущими ему представлениями о перерождениях и достижении нирваны также является традицией веры в метафизическую идентичность. В Новое время Декарт изложил свои представления о человеческой душе и сознании во втором и пятом размышлениях из «Размышлений о первой философии», став классиком дуалистического толкования природы телесности и интеллекта («протяженное» и «мыслящее», res extensa и res cogitas ).
Метафизический дуализм имеет длинную историю и распространен далеко не только в европейских культурах, а также в Азии, Индии, на Дальнем Востоке, у цивилизаций Нового света и среди архаичных племен региона Амазонки и Тихого океана. Возможно, фундаментальные корни подобных представлений восходят к культу предков и убеждениям о том, что спящие и мертвые находятся где-то еще, но не рядом (буквальные географические «территории мертвых» за пределами местообитания племени, на другом берегу Нила, в Аиде, Шеоле или погребальных курганах). Это фундаментальный мотив человеческой культуры. Как я уже об этом говорил, все это вместе взятое связано с тем, что можно назвать «коммуникативная ошибка мозга»: людям свойственно переносить навыки влияния при помощи коммуникации (угрозами и просьбами) на все вокруг, включая «причинивший боль» молоток, «общаться» с домашними животными, «одушевлять» предметы и события, считать главным признаком «интеллектуальности» способность к коммуникации (вновь вспоминаются исследования китообразных Тимоти Лири, «игра в имитацию» Алана Тьюринга и проект SETI Карла Сагана и Френсиса Дрейка).
Метафизический дуализм как представление о природе человеческих интеллектуальных способностей получил наиболее полное философское развитие в трудах знаменитого математика и философа Рене Декарта. Как я уже упоминал, Декарт изложил свои представления о человеческой душе и сознании во втором и пятом размышлениях из «Размышлений о первой философии»127. Такой дуализм полагает человеческие интеллектуальные способности недоступными естественно-научному исследованию. Это наиболее ранняя позиция в дискуссии об интеллекте, наряду с которой в философии есть множество других, например, теория тождества, буквально воспринимающая слова вроде «сознание», но отождествляющая эти слова с какими-либо принципами работы мозга, и элиминативизм П. Черчленда, отрицающий «ментальные явления» и рассматривающий теории, содержащие упоминания ментальных объектов, как ложные. Одной из наиболее интересных и подходящих для нашего разговора является теория о категориальной ошибке в работах Гильберта Райла и Дэниела Деннета, непосредственного соратника Ричарда Докинза.
Вот что пишет Дэниел Деннет о кажущейся бесполезности философии сознания: «история [философии сознания], когда она рассматривается под широким углом зрения, кажется бесплодным качанием маятника от дуализма Декарта к материализму Гоббса, идеализму Беркли, а затем обратно к дуализму, идеализму и материализму, с немногими изобретательными, но неправдоподобными приспособлениями и изменениями терминологии»128. Проблема исследования природы человеческих интеллектуальных способностей, и в особенности того, что в обычной речи называется «сознание», как раз и заключается в неопределенности предмета говорения: естественная наука получает знание о работе мозга, но область интроспективного недоступна эмпирическому исследованию. Не ясно, как эмпирические данные вообще могут быть соотнесены с традиционным говорением о сознании, если могут быть вообще. Неопределенность предмета говорения порождает и целый жанр высказываний о несводимости «интроспективного» к материальному. Деннет пишет, что картезианскому дуализму, идеализму или эпифеноменализму свойственны внутренние противоречия наподобие проблемы взаимодействия картезианских «протяженного» и «мыслящего», где такое взаимодействие физического и нефизического либо невозможно, либо ведет к нарушению принципов сохранения. Что же касается теории тождества физических процессов в мозгу и «сознательных предметов», то такое тождество просто постулируется, в противовес метафизическим соображениям. Деннет пишет, что ситуация с подобными гипотезами напоминает заведомое отнесение феноменов неопознанных летающих объектов к области метеорологии, в противовес вымыслу о пришельцах (хотя на самом деле феномены НЛО могут объясняться иначе, например как ошибки в отчетах и фальсификации энтузиастов). В том и другом случаях (с НЛО и с сознанием) имеет место предрассудок, направленный против веры в сверхъестественное. Такой предрассудок может казаться правдоподобным, но он не позволяет ни получить новое знание о природе спорных явлений, ни решить проблему прояснения значения высказываний (утверждение о том, что Солнце не является колесницей Аполлона, не влечет за собой новое знание о термоядерном синтезе).
Сам Деннет утверждает, что теория тождества является ошибочной, но это, в свою очередь, не влечет за собой дуализм. Вслед за Гильбертом Райлом Деннет высказывается в пользу того, что понятия материи и сознания относятся к различным логическим категориям, а их отождествление есть «категориальная ошибка». В целях поиска обоснований утверждения о «категориальной ошибке» подвергается анализу употребление имен существительных в различных контекстах. Так, слова, предназначенные для обозначения конкретных предметов повседневного быта, могут быть употреблены в наибольшем множестве контекстов. Слова, обозначающие абстракции, в наибольшей степени ограничены в употреблении. Деннет ссылается на Куайна, где тот упоминает слова sake и behalf в составе идиом for the sake of и in my behalf129. Все подобные идиомы функционируют в языке как одно слово. Бессмысленно искать sake или отождествлять с каким-либо предметом behalf. «В этих случаях аргументы Райла очевидны: например, категориальной ошибкой будет попытка физиолога изолировать и идентифицировать силу (the dint) определенного мускульного напряжения, что отнюдь не означает, будто сила есть скрытое, нефизическое сопровождение такого напряжения»130. Логика самого Деннета, которую он иллюстрирует примером с употреблением слова «голос», в разных контекстах обозначающего связки, колебания, физические способности исполнителя, здесь и далее становится очевидной: «будет достаточно, если все, что может быть сказано о голосах, может быть перефразировано, объяснено или иначе соотнесено только с утверждениями о физических вещах»131. В целях ясности следует перефразировать утверждения, содержащие подобные «голосу» или «сознанию» имена существительные, при этом сами слова «голос» и «сознание» уже не будет необходимости соотносить с физическим объектом.
Вместе с тем Деннету, в отличие от Райла, недостаточно утверждения о различных категориях существования. Если слово «голос» не отождествляется ни с горлом, ни с легкими, ни с потоком воздуха, это еще не означает, что нет другого предмета, с которым голос может быть отождествлен. Вопрос вида «что такое голос?», следовательно, может быть исключен не перебором неподходящих ответов, а объявлением этого вопроса плохо сформулированным и потому не допускающим никакого ответа132. Деннет вводит подразделение имен существительных на референциальные , то есть такие, какие указывают на существующие (в строгом узком смысле, который определяет сам автор: относительно которых могут быть заданы вопросы о принадлежности к тем или иным логическим категориям или о тождестве другим вещам) вещи, и нереференциальные , такие как «миля» или «голос». «Нереференциальные слова и фразы будут тогда такими, которые во многом зависят от определенных контекстов, в частности они не могут правильно употребляться в контекстах тождества…»133 Очевидно, что для нереференциальных имен существительных нет смысла искать соответствующие физические предметы, поскольку такие имена существительные вообще не работают в контекстах тождества (что можно проверить подстановкой в соответствующие контексты) и употребляются только в очень ограниченных контекстах, если вообще не являются составными частями идиом. Деннет предлагает рассматривать предложения ментального языка, то есть содержащие слова вроде слова «сознание», как объединенные (как идиомы), но не на основании предрассудка относительно ментального языка, в качестве пробы, испытания синтаксиса таких предложений. Объединение предложений ментального языка обеспечивает возможность их анализа безотносительно требований теории тождества. Здесь Деннет ссылается на функционалистские соображения Хилари Патнэма: «предложение, что частный ментальный опыт, например мышление об Испании, тождественен с частным физическим состоянием, требует, чтобы все существа, действительно размышляющие об Испании, находились в определенном физическом состоянии, которое исключает как наиболее неправдоподобную возможность, что существа с биохимией, отличной от нашей, или же с иной нервной системой могли думать об Испании»134. Деннет стремится решить не естественно-научную проблему, а лишь аналитическую: его задача «не в том, чтобы отождествить мысль Тома об Испании с некоторым физическим состоянием его мозга, но точно определить те условия, при которых можно уверенно сказать, что все предложение „Том думает об Испании“ истинно или ложно»135.
Аргументы Деннета важны для нас по следующим причинам. Мы привыкли говорить о психической жизни человека в определенных терминах. Наш способ говорить о психической жизни, о сознании и сознательной деятельности можно назвать «ментальным языком». Это не обязательно язык, пригодный для точного и понятного описания устройства человеческого мозга. Вспомните, о чем говорил Айер: задача аналитической философии напоминает задачу переводчика, только перевод осуществляется с метафизически нагруженного обыденного языка на язык точных наук. Словосочетания и целые предложения «ментального языка» могут представлять собой идиомы. Весь жанр рассуждений о духовной жизни человеческого существа может быть не более, чем набором сложившихся идиом. В таком случае отождествление существительных такого «ментального языка» с какими-либо физическими объектами может не иметь смысла. Предложения, включающие такие слова, как «сознание», могут быть переформулированы в целях исключения идиоматических конструкций, которые и вносят путаницу. Деннет не пришел к окончательному выводу о том, что все слова «ментального словаря» являются референциальными или нереференциальными, но предложил логический способ проверки отдельных слов при помощи подстановки в разный контекст. Объединение предложений (в качестве идиоматических) не исключает ни возможности анализа этих предложений, ни вероятности того, что некоторые из слов в составе таких предложений могут оказаться референциальными, то есть в итоге могут быть отождествлены с физическими объектами. Все дело лишь в том, что и обратное, то есть заведомое отнесение слов «ментального словаря» к категории референциальных, то есть таких, которые могут быть включены в контекст тождества, является собственно категориальной ошибкой . Само имплицитно присущее проблеме «сознания и тела» допущение референциальности слов «ментального словаря» произвольно.
Короче говоря, когда мы в нашей повседневности говорим о наших чувствах, мыслях, сознании и воображении, о нашем психологическом состоянии и о тому подобном, мы вынужденно используем историческое наследие нашего языка. Воспринимать наш рассказ об интроспекции и внутреннем монологе буквально — было бы ошибкой. Говоря о душе, духовности и прочих подобных вещах, мы, в сущности, имеем в виду нечто другое, более конкретное: поведение, состояние мозга, гормональный уровень, память.
Анализ картезианского дуализма как продукта категориальной ошибки влечет за собой еще один вывод: недостаток знания об исследуемом предмете заменяет аналогия, которая снабжает не до конца известные явления той же логикой развития и категориальным аппаратом, что и известные нам феномены . В данном случае категорическая ошибка — это характеристика тех явлений, в связи с которыми мы употребляем слово «сознание» и другие слова «ментального словаря», как «непротяженных» по аналогии с эмпирическими объектами, которые являются протяженными. Подобная характеристика сама по себе произвольна: не ясно, почему вообще относительно «сознания» следует говорить о самом качестве протяженности как таковом. Картезианский дуализм представляет собой не истинную или ложную теорию относительно эмпирической действительности, а художественный вымысел, миф. Такой миф не обладает объяснительными преимуществами, не позволяет получить новое знание, но приносит эмоциональное удовлетворение от разрешения или избавления от проблемы, то есть способствует экономии умственных сил, как о том писал Мах.
Что же на этот счет можно сказать с позиции науки? Полного знания об устройстве памяти, способности к распознаванию, решению задач и обучению у нас нет, хотя некоторые нейронные сети (математические модели взаимодействия нейронов и прикладные реализации таких моделей) уже преуспели в некоторых из задач вроде распознавания образов или решения простых задач. Но логическое основание исследований существует уже давно.
В противовес дуализму современное естествознание — это физикализм, то есть полная редукция всего, что подразумевается в обыденной речи под «интеллектом» или «сознанием» к функционированию, устройству и содержанию памяти человеческого мозга. Современная нейробиология и медицина накопили слишком много экспериментальных свидетельств, некоторые из которых хорошо известны еще с XIX века: от наблюдений случаев амнезии при черепно-мозговых травмах до эксперимента японских исследователей под руководством Мияуоки (Miyawaki Y., 2008) по реконструкции зрительных образов на основании исследования активности человеческого мозга при помощи метода магнитно-резонансной томографии. В последнее время широкую известность получили нейробиологические исследования Эндрю Ньюберга, который интерпретирует свои исследования активности участков коры головного мозга при религиозных действиях, молитвах и медитациях как демонстрацию того, что так называемый религиозный опыт — продукт работы мозга. В экспериментах Ньюберга участвовали тибетские буддистские монахи и францисканские монахини. Во время их медитаций и молитв у подопытных снижалась активность в теменной доли мозга, предположительно отвечающей за ориентацию в пространстве и чувство демаркации между человеком и окружающим миром. Это прекрасно объясняет знаменитое чувство «объединения с», которое представляется универсалией мистического опыта в самых разных традициях: от объединения с нетварными энергиями апофатического бога у восточных христианских мистиков вроде Паламы и объединения с Единым у неоплатоника Плотина до достижения нирваны в буддизме и чувств шаманов, которых изучал Мирча Элиаде. Даже вымышленные рыцари-джедаи в серии фильмов «Звездные войны» Джорджа Лукаса «объединяются с Силой» (becoming one with the Force ). По мысли нейробиологов, это результат работы мозга. Его можно истолковывать как вариант нормы, а можно — как нарушение работы мозга, которое функционально подобно нарушению работы поджелудочной железы или кишечника. Оно может быть приятным для испытующих его людей, но и разрушительные биохимические зависимости от никотина, этилового спирта или опиатов также приятны. Не исключено даже, что предрасположенность к религиозному опыту можно будет ингибировать, как кинетозы («морскую болезнь») в самолетах или в транспорте на горных серпантинах. Если же воспринять данную особенность мозга отдельных людей как вариант нормы, возникает другой вопрос: почему такую форму работы мозга следует считать чем-то ценным? Особенность не обязательно дает ее носителю какие-то преимущества перед большинством других людей. Вспоминаются гомосексуальные люди. Почему одна девиация, не имеющая патологического характера, заслуживает всяческого одобрения, а вторая — всяческого порицания, если обе в итоге совершенно безразличны для общественных интересов?
Если физикалистские гипотезы современной нейробиологии будут подтверждены окончательно и все стороны работы мозга, включая воображение и воспоминания, будут экспериментальным образом связаны с определенными сторонами функционирования человеческой центральной нервной системы, вопрос религий будет окончательно решен: сами мысли о существовании метафизической индивидуальности будут признаны ложными, не соответствующими очевидным фактам. Для того же христианства это будет означать полный и окончательный крах всего богословия, всех положений сотериологии и христианской антропологии, включая мысли о свободе воли и спасении. В рамках религиозных учений и традиций нет возражений против физикализма естественных наук, просто потому что апологетика никогда не готовилась к прогрессу нейробиологии, но такие возражения есть в современной философии.
3. Неуловимое сознание и философские зомби
Главным аргументом против материализма в философии сознания является аргумент о квалиа (qualia, множ. «качества»). Этот аргумент находится несколько в стороне от проблемы религии, но на самом деле это последняя линия обороны перед лицом нейробиологии для тех, кто верит в особенность человечности и таинственность духовности.
Классической работой, формулирующей аргумент о квалиа , является статья Фрэнка Джексона «Эпифеноменальные квалиа»136. Джексон утверждает, что существует телесный и чувственный опыт, который невозможно извлечь из физической информации о мозге, его состояниях, процессах, функциях, насколько бы полной доступная физическая информация ни была: «Сообщите мне все физическое, что вообще можно сообщить о том, что происходит в живом мозгу, о типах состояний, об их функциональной роли, об их отношении к тому, что происходит в другие моменты в других мозгах… вы не сообщите мне о болезненности боли, ощущении зуда, муках ревности или характерном опыте восприятия на вкус лимона, восприятия на запах розы, восприятия на слух громкого звука или виденья неба»137. Подобный эпифеноменализм, как убежден Джексон, не означает принятия каких-либо сверхъестественных воззрений, в защиту своего утверждения выдвигает четыре аргумента: аргумент о знании, аргумент о модальности, аргумент вида «каково это быть чем-то» и аргумент о каузальной роли квалиа.
Наиболее примечательный и известный аргумент о знании заключается в том, что физикалистское знание, даже если оно включает всю физическую информацию в мозге и органах чувств, является неполным. Такое знание не включает непосредственное знание чувственных данных, например «знание красного цвета». Джексон описывает два персонажа, Фрэда и Мэри. Фрэд способен различать два варианта красного цвета так, как это не способен делать никто другой. Исчерпывающее физическое знание об устройстве органов Фрэда не позволяет получить его уникальное знание двух красных цветов, которые для него отличаются так же, как для обычного человека отличаются зеленый и красный. Вероятно, возможно пересадить глаза Фрэда исследователю, имеющему полное знание об устройстве мозга, и реципиент такой операции сможет различать цвета, как Фрэд. Но такое приобретенное хирургическим путем знание будет для реципиента чем-то новым в сравнении с физическим знанием. Следовательно, заключает Джексон, физикализм неполон. Второй персонаж Джексона, Мэри, — нейробиолог, лишенный опыта красного цвета. Мэри живет в черно-белой комнате, изучает принципы работы человеческого мозга и зрения, но никогда не сталкивается с красными предметами. За пределами черно-белой комнаты Мэри приобретает новое для себя знание, а следовательно, физикалистское знание является неполным.
Модальный аргумент заключается в том, что якобы могут быть представлены существа, физически идентичные людям, но не обладающие ментальной жизнью, и из существования таких существ можно сделать вывод о ложности физикализма. Модальный аргумент касается существования так называемого философского зомби , о котором первым написал Сол Крипке138. Очевидной слабостью модального аргумента является то, что существование подобного философского зомби лишь произвольно постулируется. Вызывает сомнение то, что точное повторение причин не приведет к получению точного повторения следствий.
Аргумент вида «каково это быть чем-то» связан с работой Томаса Нагеля «Каково это быть летучей мышью?»139. Быть тем-то и тем-то, по логике Нагеля, означает иметь определенную точку зрения. И только с этой определенной точки зрения можно понять, что значит быть тем-то и тем-то. Физическая информация же одинаково понятна с нескольких точек зрения. По утверждению Джексона, данный аргумент отличается от первого аргумента потому, что является более широким. Никакое количество знаний, причем не только физических, но и знаний квалиа (таких как красный-1 и красный-2 в примере с Фредом), если бы могли получить таковые, не является равным объему знаний «быть таким-то человеком» (быть Фредом) изнутри. Если Фред просто обладает уникальной способностью различить цвета красный-1 и красный-2 так же, как большинство людей различают красный и зеленый, то это означает, что Фред обладает уникальным зрительным опытом, который он не может передать окружающим, сделать такой опыт интерсубъективным. Но помимо такого опыта Фред также обладает опытом своей идентичности и индивидуального существования. Сам Джексон не находит аргумент Нагеля особенно интересным: «Нагель утверждает, что проблема с летучими мышами и тому подобным в том, что они слишком не такие, как мы. В этом трудно увидеть возражение физикализму. Физикализм не делает особых утверждений о способностях человеческих существ к воображению и экстраполяции, и трудно обнаружить, почему он должен был быть»140. Нагель пишет, что «организм имеет сознательные ментальные состояния тогда и только тогда, когда есть нечто, каково быть этим организмом, — нечто, каково оно для этого организма»141. Речь идет об опыте «от первого лица», присутствие или отсутствие которого не влияет на любой редукционистский анализ. Такой опыт, по утверждению Нагеля, не тождествен функциональным состояниям, поскольку представляется возможным иметь функции и не иметь опыта. В частности, Нагель не отрицает , что сознательные ментальные состояния являются причиной поведения, он лишь отрицает, что субъективный характер опыта может быть редуцирован, что, в свою очередь, создает очевидное препятствие для физикализма. «Бессмысленно основывать защиту материализма на любом анализе ментальных феноменов, который не способен эксплицитно разобраться с их субъективным характером…. Без какой-либо идеи, тем самым, что такое субъективный характер опыта, мы не можем знать, что требуется от физикалистской теории»142. Важный тезис Нагеля заключается в том, что феноменам невозможно найти исчерпывающее физическое соответствие, поскольку феномен связан с индивидуальной тонкой зрения , а физическая теория интерсубъективна, то есть может рассматриваться вне зависимости от точки зрения. Летучие мыши, о которых говорит Нагель, интересны тем, что они обладают органом чувств, которого нет у человека, сонаром. Экстраполяция опыта — это единственный способ приблизиться к получению информации о том, «каково это быть летучей мышью», но этот способ основан лишь на игре воображения и не позволяет получить искомое знание. Человеческое воображение основывается на человеческом опыте и потому ограничено в целях экстраполяции опыта летучей мыши. У людей и летучих мышей, по словам, Нагеля, есть некоторые общие ментальные состояния, вроде голода, но из этого не следует отказывать летучим мышам в некоторых других, более частных состояниях. Люди никогда не будут обладать такими ментальными состояниями и опытными знаниями, которые доступны только обладателям таких ментальных состояний, просто в силу того, что они люди. «Рефлексия о том, каково это быть летучей мышью, ведет нас таким образом к заключению о том, что есть факты, которые не заключаются в истинности высказываний, выразимых человеческим языком»143. Наконец, заключительным суждением Нагеля является то, что научные данные объективны, то есть могут быть описаны с разных точек зрения, существами с разными органами чувств. Молния, по словам Нагеля, имеет объективный характер, не исчерпывающийся ее зрительным проявлением. Данное утверждение следует особым образом отметить, чтобы вернуться к нему в целях анализа.
Что касается аргумента о каузальной роли квалиа , Джексон перечисляет два классических убеждения, согласно первому из которых, некоторые ментальные состояния не действуют на реальный мир. Второе убеждение заключается в том, что вся сфера ментального в целом «недействительна» для физического мира. Сам Фрэнк Джексон ограничивается защитой двух более конкретных убеждений. Во-первых, есть такие ментальные состояния, которые именуются квалиа, и для физического мира нет разницы, имеются ли такие состояния или нет. Во-вторых, квалиа как ментальный процесс недействительна для физического мира, но может влиять на другие ментальные процессы. В целях защиты своих утверждений Джексон рассматривает и критикует три типа соображений в пользу непосредственной каузальной роли квалиа.
В науке о поведении считается обычным, что боль является причиной, влекущей за собой поведение, направленное на устранение источника боли. Однако если относительно каузальности соглашаться с Юмом и Махом, а не с Аристотелем, придется заключить следующее: люди говорят о причинно-следственной связи, когда во всех наблюдениях за событием, называемым причиной, хронологически следует событие, называемое следствием. Человеческое суеверие порождается совпадением событий: мозг может связать некоторый жест или действие с произвольно последовавшим событием. Так формируется условный рефлекс. Основанием научного метода является экспериментальная проверка, позволяющая отделить релевантные предмету исследования факторы от нерелевантных. Но никакие повторяющиеся экспериментальные данные не позволяют ни исключить неизвестный на данном этапе определяющий фактор (такой, как релятивистская поправка в уравнениях классической механики или присутствие неизвестного катализатора), ни, в силу проблемы неполноты индукции, утверждать, что во всех подобных случаях такая же последовательность событий будет иметь место. Джексон иллюстрирует свои соображения о каузальной роли квалиа последовательностью кадров в фильме: сколько бы раз движение кулака одного актера не влекло за собой движение лица второго актера в сцене с дракой, повторяемость данной последовательности событий никаким образом не касается всеобъемлющей для данных «событий» теории, описывающей принципы работы проектора и бобины с пленкой. Так, по логике эпифеноменалистов, чувство «болезненности боли» и поведение, направленное на преодоление источника ущерба, могут иметь общую нейробиологическую причину, но при этом быть независимыми друг от друга.
Джексон также утверждает, что представление о квалиа совместимо с данными об эволюционном процессе, для чего приводит аналогию: обладание полезной для выживания в суровых климатических условиях толстой шкурой неизбежно влечет за собой обладание тяжелой шкурой, где избыточная тяжесть не способствует выживанию. Однако в совокупности такая морфологическая черта, как толстая и тяжелая шкура, более полезна для выживания, чем вредна. Способность же испытывать квалиа, если таковая не действует на физический мир и потому бесполезна для выживания, по логике эпифеноменалистов, может быть таким же побочным продуктом других способностей мозга, полезных для приспособления к среде. Наконец, суждение о чужом опыте на основании чужого поведения Джексон сравнивает с суждением о содержании одного отчета о спортивном матче на основании другого отчета об этом же матче: у поведения и непосредственного опыта также могут быть общие причины.
Критика понятия «квалиа» представлена у Дэниела Деннета в статье «Отрицая144 квалиа»145 и книге «Сознание объясненное»146. Деннет не отрицает сознательный опыт, но утверждает, что сознательный опыт не обладает особыми качествами, которые приписываются квалиа, и которые Деннет суммирует: квалиа невыразимые, внутренние, частные и непосредственно понятные. По мнению Деннета, сознательный опыт не является квалиа. Поскольку содержание термина «квалиа» пропонентами не определяется, а рассуждения о квалиа основываются на дотеоретической интуиции, Деннет использует, по его словам, не аргументы, а пятнадцать коротких иллюстрирующих примеров и мысленных экспериментов, которые он называет «помпами интуиции». Слово «квалиа» согласно Деннету не вносит «ничего, кроме замешательства, и не указывает, в конце концов, ни на какие качества или черты вообще»147. Деннет, в частности, утверждает, что интерсубъективное сравнение того, что называют эпифеноменалисты квалиа, невозможно; что в определенных ситуациях человек при помощи своей собственной интроспекции не сможет определить, привели ли к изменению цветового восприятия или вкусов изменения собственно «квалиа» или изменения в памяти.
Что я могу сказать по поводу всего вышеперечисленного? Эпифеноменалисты утверждают, что их аргументы о квалиа являются свидетельством неполноты физикализма и ложности утверждения о возможности редукции «сферы ментального» к структурам и работе мозга. Относительно данного утверждения допустимо возражение: аргумент о знании касается лишь непригодности языка для передачи чувственного опыта148. Фрэнк обладает некоторым знанием149 о красном цвете, которое не может передать окружающим при помощи языка. Мэри приобретает некоторое опытное знание, которое она не могла получить из текстов по нейробиологии, когда покидает черно-белую комнату. Из данных примеров следует, что опытное знание Мэри и Фрэнка не является вербальным. Слово «красный» или научная статья о длине волн электромагнитного излучения видимой части спектра не причиняют «опыт красного»; повествование о пытках не причиняет боль. Адресаты речи лишь декодируют ее, при этом их мозг ищет аналогии из собственного невербального опыта. Такие аналогии являются лишь экстраполяцией, о которой писал Нагель.
Во-первых, из аргумента о знании не следует, что «опыт от первого лица» не может быть передан невербальным способом : боль можно причинить, предмет красного цвета продемонстрировать. Во-вторых, из аргумента о знании не следует, что невербальная информация является нефизической . Это второе замечание представляется особенно важным. Если невербальная информация является физической, то она также может быть предметом естественно-научного исследования. Человеку присуща как память о научных понятиях или содержании текстов научных статей, так и память о чувственном опыте. Можно помнить о боли или о том, какого цвета был такой-то предмет в прошлом. Некоторым людям присуща фотографически точная память. Если верно, что долгосрочная человеческая память представляет собой устройство мозга (как я уже несколько раз повторял, клеточного или внутриклеточного уровня)150, то и человеческие воспоминания о боли или «опыте красного» имеют физическую природу. В таком случае должен существовать мнемонический код , описывающий соотношение элементов молекулярных структур нейронов и простых повторяющихся элементов чувственного опыта, подобный генетическому коду, то есть соответствию триплетов нуклеотидов аминокислотам в составе белковых молекул. При помощи средств науки (языка и формул) можно описать первую последовательность мнемонического кода, то есть молекулярное устройство нейронов. Такое вербальное описание, в силу аргумента о знании, само по себе не позволит получить опыт человека, подвергшегося исследованию, однако оно может дать понять, каким образом внедрить другому человеку в точности такие же воспоминания. Гипотетически нет ничего невозможного в допущении, что содержимое нейронной памяти можно извлечь или копировать (даже если такая задача невыполнима в силу практических причин, вроде ущерба структуре мозга при извлечении молекулярных последовательностей из нейронов, мысленный эксперимент все равно допустим). Мэри, находящаяся в черно-белой комнате, может получить знание об устройстве памяти, мнемоническую кодирующую последовательность человека из цветного мира снаружи, и заложить такую кодирующую последовательность в свой мозг (по условиям мысленного эксперимента Джексона, Мэри обладает всей возможной научной информацией из области нейробиологии). Если между памятью и восприятием нет симметрии и мозг Мэри, лишенный «опыта красного», не будет способен декодировать кодирующую последовательность чужих воспоминаний так же, как мозг человека из «цветного мира», то Мэри сможет перенастроить свой мозг по образцам человеческого мозга человека «из цветного мира» (то же справедливо и в отношении инверсии спектра: декодирование одной и той же последовательности как «зеленого» или как «красного» также определяется принципами декодирования). В последнем случае Мэри понадобится не только кодирующая последовательность, но и способ декодирования, которого ее мозг в силу цветовой депривации был лишен. Для ЦНС людей, живущих в одинаковых условиях, то есть не подвергавшихся изоляции, подобно «детям-маугли», и физически полноценных, декодирование не будет проблемой. Получив чужие воспоминания, Мэри получает опыт «красного цвета» до того, как сможет покинуть черно-белую комнату. Такая трансляция опыта и памяти также является случаем невербального способа, о котором шла речь выше.
Наш мысленный эксперимент с мнемоническим кодом демонстрирует следующее: язык кодирует чувственный опыт опосредовано , где посредником является демонстрация. Чтобы объяснить человеку, что означает словосочетание «красный цвет», ему нужно продемонстрировать предмет, который обычно называется «красным». При вербальном обучении нет возможности контролировать то, каким образом человек в действительности воспринимает и запоминает предмет, который в речи называется «красным», имеет ли или не имеет место инверсия спектра. Можно лишь проверить, отличает ли человек один цвет от другого при помощи тестов на дальтонизм (для Фрэнка из мысленного эксперимента Джексона все прочие люди являются дальтониками). Однако мозговые структуры могут кодировать память и опыт непосредственно. Научное знание не содержит непосредственного опыта «красного цвета» потому, что является вербальным, то есть выражено при помощи языка. Не все человеческие знания являются вербальными. В спорте моторные навыки, приобретаемые мозгом спортсменов, закрепляются при помощи тренировок, а язык может лишь описать способ проведения тренировок; нельзя подготовить боксера, разговаривая с ним о постановке удара. Кинологи обучают полицейских собак искать наркотики и взрывчатку по запаху, но совершенно очевидно то, что собаки не способны овладеть человеческим языком и получить вербальное знание. Знание Мэри о том, «каков красный цвет», не отличается от знания служебной собаки о том, «каков запах кокаина». Эпифеноменалистский аргумент о знании не говорит ничего ни о природе опыта и знаний, ни о невербальных средствах передачи опытных знаний, и, следовательно, не является аргументом против физикализма.
К сказанному можно лишь добавить, что в действительности говорение о нефизической информации является разновидностью схоластического реализма. Слово «информация» является абстракцией. Каждый конкретный случай говорения об информации связан с эмпирическими предметами и их последовательностью («упорядоченной последовательностью знаков»). Более конкретным является слово «код», которое употребляется для наименования случаев соотношения материальных элементов, таких как соотношения триплетов нуклеотидов кодирующей последовательности РНК аминокислотам в составе белковой молекулы; соотношения операторов компьютерной программы высокого уровня командам ассемблера, а тех — процессорным операциям; соотношения элементов шифра машины «Энигма» буквам немецкого языка; соотношения определений в словаре чувственным характеристикам предметов.
Если вербальные описания устройства мозга непригодны в целях утверждения тождества определенных состояний мозга и определенных опытных данных, то способом для подобного утверждения должна быть экспериментальная демонстрация. В этих целях может быть полезен эксперимент по реконструкции зрительных образов на основании активности человеческого мозга при помощи метода магнитно-резонансной томографии (МРТ)151, который напоминает четвертую «помпу интуиции», именуемую Деннетом «машиной мозгового штурма»152. В указанном эксперименте группы японских ученых состояния коры головного мозга, информация о которых получается методом МРТ, математически декодируются в целях получения содержимого зрительных данных. Контрольным изображением в эксперименте служит надпись «нейрон». Математические принципы декодирования и их нейробиологические основания являются предметами соответствующих наук, но вопрос метода постановки эксперимента и установления тождества результатов является предметом аналитической философии. Если до настоящего времени чувственный или сознательный опыт был исключительно субъективным, то человек, обладающий таким опытом, не мог поместить словосочетание «мой опыт» в контекст тождества. Это имеет прямое отношение к работе Деннета о «категориальной ошибке», рассмотренной в начале данного параграфа. Если невозможно правильно употребить слово «квалиа» в контексте тождества, то само такое слово можно считать нереференциальным. Но человек, имеющий дело с результатами реконструкции зрительных данных, может утверждать, что отождествляет или не отождествляет собственный сознательный опыт («мой опыт») с продуктом реконструкции. О наличии тождества может судить и испытуемый, на основании данных о мозге которого была получена реконструкция. Хотя Деннет в «четвертой помпе интуиции» утверждал, что интерсубъективное сравнение чувственного опыта невозможно, поскольку калибровка «машины мозгового штурма», извлекающей опыт, возможна лишь на основании отчетов участников эксперимента153, для геометрических параметров зрительного опыта проблема с инверсией спектра зрительного опыта не имеет значения (возможно, человеческий мозг либо способен воспринимать перспективу, форму и протяженность одним единообразным способом, либо не способен на зрительное восприятие вообще). Надпись, выполненная определенным шрифтом и представляющая собой определенную последовательность букв, позволяет строго отождествлять результаты. Данное отождествление так же необходимо, как и любое отождествление в экспериментах с объективными данными. Причем отождествление возможно только по результату демонстрации, хотя сам способ получения результатов для демонстрации может быть описан. Таким образом, целью исследований чувственного и мнемонического содержимого мозга должны быть эксперименты, направленные на извлечение образцов, пригодных для интерсубъективного сравнения методом демонстрации (или другим, более экзотическим невербальным методом, вроде гипотетического нейроинтерфейса). Если данный конкретный эксперимент может позволить говорить о тождестве зрительного чувственного опыта и определенных параметров мозга, то могут быть проведены и другие эксперименты для более полной передачи опыта или даже памяти. Конечно, запах или тактильные ощущения нельзя будет продемонстрировать и транслировать при помощи изображения на экране монитора так же, как зрительный опыт. И в таком случае может понадобиться оборудование для непосредственной (то есть невербальной) передачи данных от одной нервной системы другой. Можно представить себе какие-либо способы переноса кодирующих последовательностей молекулярного уровня нейронов, или соединение нервных систем через какие-либо гипотетические полупроводниковые или биотехнологические устройства. Но в целях данной работы не является важным, каким способом тождество между состояниями и устройством мозга и чувственным опытом и памятью будет демонстративно установлено. В любом случае язык по-прежнему не будет пригоден для непосредственной передачи и отождествления опыта.
Модальный аргумент , в свою очередь, представляется аналогичным дискуссии о функционализме. Философский зомби возможен хотя бы логически лишь в случае, если «обладание чувственным опытом» является функцией, которая может быть полностью абстрагирована от материальной структуры. Подобная полная абстракция невозможна, что можно доказать, если привести короткий аргумент против физикализма (одного из направлений аналитической философии интеллекта середины XX века) в работе Уильяма Кальке «Что не так с функционализмом Фодора и Патнэма?»154.
Определение функциональных качеств произвольно и зависит от выбора пределов рассмотрения системы и уровня абстрагирования. При достаточном абстрагировании можно счесть функционально «одинаковыми» кошку и мышеловку (кошка и мышеловка выполняют одинаковую функцию ловли мышей), а задав жесткий предел тех структурных характеристик, которые останутся за пределами «черного ящика» (оставив в «черном ящике», то есть вне рассмотрения, только индивидуальные особенности физиологии), и низкий уровень абстрагирования, то есть крайне детальное рассмотрение поведения, можно определить две разные человеческие единицы как функционально несопоставимые (два разных человека по-разному реагируют на боль, по-разному ведут себя в определенных условиях и, следовательно, не «одинаковы» функционально).
Короче говоря, функция невозможна сама по себе, в отсутствие структуры — если мозг погиб, а интегральная плата расплавилась. Джексон в своих рассуждениях о каузальной роли квалиа говорит о том, что квалиа и поведенческий ответ могут иметь общую причину, то есть быть синхронными и параллельными, но не исключает квалиа из физической каузальности вообще. Предполагаю, что две различные структуры могут порождать идентичное поведение, то есть одна структура может имитировать другую структуру, но даже совершенная поведенческая имитация в любом случае будет разоблачена, если структуры будут исследованы и будет выявлено структурное различие между «репликантом» и человеком!
Сам вопрос имитации — это вопрос распознавания.
Почему это важно для нашего разговора о религии? Функционализм, о котором я здесь говорю, как и эпифеноменализм, претендует на опровержение физикализма, то есть редукции интеллектуальных способностей к устройству мозга. Эпифеноменализм прямо происходит из платоновского мифа о душе и противостоит физикализму, это, по сути, та же метафизика души и тела в новом обличье. Функционализм просто вносит путаницу в разговор об интеллекте и сознании, но решение вопроса о функционализме позволяет опровергнуть эпифеноменалистский миф. К сожалению, этот момент моего рассказа может показаться довольно сложным, но вы уже совсем близко от выхода из этого лабиринта!
Все оказывается очень просто: если нельзя исключить причинную роль физической структуры мозга, то есть если конкретная структура с необходимостью порождает все то, что можно назвать «функциями» и «феноменами» человека, то этот самый философский зомби Крипке — это пример чистого дуализма. То есть это просто замаскированный миф о непознаваемой и бестелесной душе, которая недоступна всяким машинам и зомби.
Аргумент Нагеля (аргумент о «непознаваемом опыте» летучей мыши) представляет меньший интерес в силу причин, названных Джексоном. Полное и окончательное признание программы физикализма не исключает бесспорного довода о том, что человек и летучая мышь обладают различным опытом, различной памятью и вообще существуют различным образом. Никакое научное описание устройства органов чувств и нервной системы летучей мыши не позволит человеку получить опыт летучей мыши, и даже перенесение кодирующих последовательностей памяти, если таковые у человека и летучей мыши строятся одинаковым биохимическим образом, вероятнее всего, не даст человеческому мозгу возможности такой опыт обрести. Можно закономерно предположить, что человеческий мозг просто не будет способен данные кодирующие последовательности полностью декодировать, поскольку для такого декодирования мозг человека просто неприспособлен эволюционно, хотя не исключено, что человеческий мозг справится с задачей частично, если между принципами устройства ЦНС человека и летучей мыши есть какие-либо высокоуровневые сходства. Сходства в работе отделов мозга, унаследованных от общих древних предков, вроде гипоталамуса, отвечающего за нейрогуморальную регуляцию, едва ли отразятся на способности к операциям с чувственной памятью. Возможно, перенос мнемонических кодирующих последовательностей летучей мыши в мозг человека привел бы к парадоксальному результату, далекому от нормального функционирования и подобному галлюцинациям или психическим расстройствам. Полностью декодировать кодирующие последовательности памяти летучей мыши по очевидным причинам может только одно устройство — мозг летучей мыши. Здесь становится очевидным, что аргумент Нагеля является тавтологией : нельзя понять, каково это быть летучей мышью, не будучи (в единственном естественно-научном смысле — по структуре) летучей мышью. Это банально, и ничего не говорит нам о том, что опыт летучей мыши или опыт человека имеют сверхъестественный характер.
Аргумент Нагеля вообще не является возражением для физикализма, хотя может быть одной из предпосылок для несколько нетривиального и выходящего за рамки целей данной работы вывода о том, что все человеческое научное знание, включая аксиоматическое, антропоцентрично. Нагель подразделяет характеристики явлений на субъективные и объективные. Первые могут быть восприняты лишь с «определенной точки зрения», а относительно вторых: «Молния имеет объективный характер, который не исчерпывается ее зрительным проявлением, и это может быть исследовано Марсианином без зрения»155. Подобное утверждение порождает возражение: человек может иметь суждение о каком-либо явлении только на основании данных органов чувств. Любые дескриптивные характеристики предметов, такие как протяженность, масса, ускорение или форма, могут быть установлены только чувственным путем и только существом, способным наблюдать, следить, измерять. Если некоторое существо не способно никаким образом получить информацию о существовании явления, которое Нагель бы назвал объективно существующим, то такое существо не может иметь никаких суждений о явлении.
Каузальный аргумент , как его формулирует Джексон, не исключает квалиа из каузального порядка состояний нервной системы: по его словам, чувственный опыт «от первого лица» имеет общие нейробиологические причины, что и поведенческий ответ, но параллелен поведению.
Каузальный аргумент нейробиологического эпифеноменализма не касается природы квалиа и не является аргументом против физикализма, поскольку логически совместим с утверждением о том, что чувственный опыт является биологическим состоянием. Окончательное суждение о нейробиологической каузальности и порядковой последовательности состояний может быть основано только на данных биологии, но аргументация эпифеноменалистов может быть предметом логического анализа. Что еще более важно, каузальный аргумент создает затруднения для объяснения приобретенных поведенческих реакций.
Утверждение о том, что чувственный опыт боли может только сопутствовать поведенческому ответу на раздражитель, причиняющий боль, лишает возможности объяснить, почему человек стремится избежать соприкосновения с предметом, который однажды уже вызвал боль. Память болезненных ощущений от соприкосновения с нагретым металлом, то есть память о том, что эпифеноменалист назвал бы «квалиа», сама по себе достаточна для выработки безопасного поведения. В этом и подобных случаях поведение порождается лишь памятью чувственных ощущений, а не самим физическим раздражителем.
Что все это значит для нашего разговора? Примеры, которые приводят эпифеноменалисты, ровным счетом ничего не доказывают о том, что человеческий сознательный опыт не имеет телесной, физической природы. Их аргументы сами по себе внутренне противоречивы. Их мысленные эксперименты лишь запутывают. Все, что я хочу сказать, очень просто и напрямую касается религии: все то, что мы называем нашими чувствами или сознанием, является на самом деле лишь содержимым нашего мозга. Нет никаких выдерживающих критику доводов в пользу того, что когда мы говорим о «субъективном», мы не имеем в виду конкретные материальные структуры.
Мой довод против эпифеноменализма можно назвать мнемоническим аргументом. Однако в целях демонстрации логических противоречий аргументов о квалиа нет необходимости опираться на гипотезы о памяти и современные нейробиологические эксперименты. Достаточно лишь анализа самой аргументации эпифеноменалистов. Аргумент о знании, представляющий собой главный довод эпифеноменализма, касается только вербального способа передачи знания, и ничего не говорит о природе опытного знания. Каузальный аргумент, во-первых, не позволяет объяснить существование приобретенных поведенческих реакций, таких как страх перед предметом, способным причинить боль, где именно память о «болезненности» боли является причиной страха, а во-вторых, сам по себе ничего не говорит о природе чувственного опыта. В частности, Джексоном рассматривается как порождаемый нейробиологическими причинами, то есть утверждения о природе субъективного не следуют из суждений о каузальной роли субъективного, и в случае с метафизическим эпифеноменализмом постулируются произвольно в начале рассуждений. Аргумент Нагеля является тавтологическим, где полное знание о том, «каково это быть летучей мышью», тождественно структурной идентичности с летучей мышью. Модальный аргумент Крипке произвольным образом постулирует отсутствие причинно-следственной связи между структурой тела и сознанием, то есть является случаем дуализма.
Окончательный вывод о том, что слово «квалиа» в будущем разделит судьбу слов «теплород», «эфир» или «витальность», можно сделать лишь на основании исчерпывающих естественно-научных данных. Однако логический анализ утверждений эпифеноменалистов позволяет обнаружить двусмысленности и в тех рассуждениях, которые и позволяют начинать разговоры о квалиа. При этом нет необходимости исключать из речи словосочетания «чувственный опыт» или «сознательный опыт».
Что это означает для нашего разговора о религии? Все очень просто! Физикализму нет альтернативы. Аргументы, направленные против физикализма, сами не выдерживают критики. Давняя гипотеза о связи устройства человеческого мозга и человеческой интеллектуальности, которая была хорошо знакома еще Гольбаху, на наших глазах превращается в имеющую предсказательную силу теорию. Эпифеноменализм — это красная линия, последний рубеж обороны, который занимают те, кто втайне верит в особое, надприродное качество человеческого ума, сознания и психической жизни. Для теории разума эпифеноменализм играет такую же роль, как аргумент «разумного замысла» для эволюционной биологии. А природа интеллекта, сознания и души — это последнее убежище всех религий на планете. Когда это убежище падет перед лицом точного познания, когда мы поймем, как связаны гены, устройство мозга, поведение и память, места для религий в нашей культуре и на нашей планете не останется. Потому что главная мысль каждой религии — это вовсе не бог, ведь бог — это частный персонаж авраамических религий. Главная мысль каждой возможной религии в мире — это сверхъестественная сила наших мыслей, наша свободная воля и наша метафизическая индивидуальность.
Но что подобная экстраполяция означает для нас? Я понимаю, что в этот самый момент у читателя может возникнуть знаменитый вопрос о свободе воли, и я могу ответить на него таким образом: мы можем предопределить поведение человека. Но для этого нужно определить все исходные условия нашего поведения, включая нашу телесность, наше состояние, нашу окружающую среду и нашу память. Человеческое поведение детерминировано всеми этими факторами сразу, причем действующими единовременно. Плюс могут быть и другие факторы, которые нам не известны. Но если мы как бы «клонируем» весь участок пространства-времени, включающий человека со всеми его параметрами и всю среду вокруг него со всеми ее параметрами, мы определим тем самым человеческое поведение, человеческое состояние, человеческие мысли, вообще все, что обычно мы определяем как человеческое. Это будет идеальная человеческая копия в идеальном «Дне сурка».
Однако наш мозг сформирован эволюционным процессом в условиях, которые постоянно меняются, и все наши особенные способности позволяют нам не выполнять одну и ту же рутину раз за разом, а приспосабливаться к постоянным изменениям. Чтобы детерминировать человека, его нужно поместить в совершенно определенную среду в совершенно определенном состоянии… Но для такой ситуации лучше подходит простой автомат, а способность нашего мозга постоянно искать решения проблем и учиться для подобных условий будет избыточна. Мне мгновенно вспоминается знаменитая аллегория о забивании микроскопом гвоздей.
Не мироздание, карма и божественная воля устроены ради нашей свободной воли, а то, что мы традиционно называем «свободной волей», устроено ради приспособления к «беспорядочному» миру, «полному шума и ярости».
4. Заключение. Научные данные несовместимы с религиозными идеями
Большая часть религиозных идей не является предметом науки. Нельзя экспериментальными данными или принятыми нами теориями подтвердить моральные максимы или опровергнуть тринитарную антиномию, просто потому что оценочные или метафизические высказывания не имеют отношения к опыту. Но есть в составе религиозных учений и отдельные представления, которые можно опровергнуть фактами или противопоставить нашим теоретическим знаниям по существу. Самым уязвимым для естественно-научной критики является религиозное представление о человеческой природе. Эйдосы и провидение — хороший повод для пустого спора, но человеческая природа дана нам в опыте. Знание о том, как мы устроены, «несъедобно» для верующих. Наше эволюционное происхождение пугает тех, кто привык видеть в человеческой природе сверхъестественный центр Вселенной, ради которого существуют небесные тела и твари живые. Впрочем, без мифа о красной глине можно обойтись. Для ловкого апологета приматы — не такая уж и проблема. Но вот знание о нашем разуме — вызов для веры значительно более страшный, подлинный масштаб которого еще не был даже толком оценен. Я не вижу серьезных возражений тому, что мы — это только состояние нашего мозга. Эксперименты по изучению содержания зрительного восприятия или даже по передаче воспоминаний от одной крысы другой поражают воображение. Если верно, что человеческой памятью и индивидуальностью можно манипулировать при помощи нейробиологических средств, самые важные постулаты религиозных убеждений и метафизической философии теряют всякий смысл. Наша индивидуальность, наша личность, наша свободная воля и наше поведение — это не божественная тайна, а лишь биологическая частность. Наш разум так же беспомощно перебирает ограниченное количество решений, как и эволюционный процесс.
Таким образом, не все религиозные идеи могут существовать в метафизическом вакууме, хотя для знакомого с историей философии человека непроверяемое есть спекулятивное и бессмысленное. Между некоторыми очень важными религиозными идеями и наукой все же есть конфликт. Есть часть религии, которая является бессмыслицей, но есть и часть религии, которая является ложью. Ложными являются аргументы креационистов о том, что у событий библейского потопа есть геологические доказательства. Ложным является и то, что человеческая воля не зависит от состояния мозга.
Вот важная мысль, которую следует запомнить: религия мешает нам понимать нашу собственную природу. Она мешает нам понять причины нашего поведения и мешает нам решать наши собственные проблемы. Религия называет грехом естественное поведение и добродетелью то, что является насилием над человеческой природой. В этом религия противостоит жизни и мешает нашему познанию.
IV. О морали и ценностях религии
Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
Иисус Христос
(Мф.7:22–23)
В христианской традиции человек может достичь спасения, то есть восстановления нарушенной грехопадением связи с богом, который является источником всего блага в мире. Без объединения с богом человек в своей жизни и своем посмертном существовании будет страдать, потому что в его жизни не будет божественной любви. Эти постулаты христианской традиции восходят, как вы помните, к идеям Платона. Именно Платон развил понятие «псюхе», души как нематериальной идентичности, существующей вне тела в нематериальном мире, и представление о Благе как таковом (в архаичных мифах, включая иудейские, под духом понимается буквальное дыхание, не имеющее отношения к индивидуальности). Благо у Платона является языковой абстракцией от всего, что персонажи платонических диалогов, Сократ, его ученики и оппоненты соглашались назвать «благим» и «совершенным». Возникшая за тысячи километров от Средиземноморья традиция, буддизм, представляет собой способ через познание четырех благородных истин достичь нирваны как свободного от страданий бесстрастного состояния. Общим для данных традиций является противопоставление чувственной действительности, настоящей жизни, с одной стороны, и идеалов — с другой.
1. Что означают оценочные суждения?
Во всех перечисленных случаях обращает на себя внимание произвольное употребление самого понятия блага. Характеристика какого-то предмета или события как «благого», или «хорошего», отлична по своей лингвистической роли от описания этого предмета как протяженного, имеющего определенную массу или конкретное положение в пространстве. Утверждение о том, что Адольф Гитлер был «плохим человеком», не играет такой же логической роли, как утверждение о том, что Адольф Гитлер имел такой-то вес, такой-то рост и такой-то цвет волос. Оценочное высказывание не является дескриптивным высказыванием, не выражает какой-то чувственный опыт и не имеет истинностного значения.
Подобный способ анализа оценочных суждений и ценностных проблем известен как эмотивизм и получил свое начало в уже упомянутом исследовании Альфреда Айера и более подробно в статье Чарльза Стивенсона «Эмоциональное значение этических терминов». Альфред Айер отделяет собственно этические суждения от анализа содержания этических терминов, анализа «морального опыта» и его причин и этических «увещеваний». Предметом интереса Айера был вопрос о том, «можно ли высказывания об этических ценностях перевести в высказывания об эмпирических фактах »156. Рассматривая этические суждения, Айер отказывается от субъективистского и утилитаристского подходов, как способов анализа существующих этических предложений. Субъективистский подход заключается в том, что «верное» — есть то, что поддерживается большинством. Но в утверждении о том, что «большинство иногда поддерживает неверные действия», нет логического противоречия. Следовательно, определение «верного» не связано с коллективным соглашением или индивидуальным одобрением. Утилитаристский подход также является неудовлетворительным в целях определения того, что считается «верным», так как нет логического противоречия в утверждении о том, что «не всегда действия, приносящие наибольшее удовлетворение в данной ситуации, являются верными »157. Айер пишет о том, что редукция этических утверждений к не-этическим (дескриптивным) не совместима с конвенциями современного обычного языка. Рассмотренные им утилитаризм и субъективизм не годятся, таким образом, не как источники каких-либо конкретных этических утверждений, а как способы анализа существующих этических понятий, как основания метаэтики. Также Айер указывает, что следует различать нормативные этические символы и дескриптивные этические символы, где последние являются лишь описаниями предпочтений отдельно взятого общества, то есть являются обычными социологическими предложениями. Если же брать в качестве примера традиции обоснования этических суждений в интуиции или метафизике, то легко обнаруживается, что из таких неясных оснований можно обосновывать произвольные утверждения. Для абсолютистских или интуитивистских метаэтических соображений нет релевантной эмпирической проверки. Главная же мысль Айера заключается в том, что этический символ в пропозиции не добавляет ничего к фактическому значению предложения: «ты поступил неправильно, украв деньги» = «ты украл деньги», где оценка есть лишь выражение эмоций, синтаксически тождественная восклицательному знаку. «Если в предложении вообще не содержится утверждения, очевидно, что нет смысла спрашивать, является ли сказанное истинным или ложным»158. Наконец, утверждения об эмоциях (assertions159) отличаются от выражений эмоций (expressions), то есть этических суждений, тем, что выражение эмоции не обязательно сопровождается утверждением. Можно только добавить, что утверждение об эмоциональном переживании («в данный момент я скучаю», «в данный момент я напуган») не является суггестией и этически нейтрально.
Вот что заключает в конце концов Айер: «…любая попытка сделать из нашего употребления этических и эстетических понятий основание метафизической теории, относящейся к существованию мира ценностей, отличного от мира фактов, содержит ложный анализ этих понятий»160.
Чарльз Стивенсон в своей работе «Эмоциональное значение этических терминов»161 подверг критике классические этические «теории интереса» Юма и Гоббса, так как последние определяли эмоциональные термины (такие как «благо»), используя чисто дескриптивные термины («то, что одобряется обществом»). Согласно Юму назвать нечто «благом» означает признать, что большинство одобряет это нечто, а согласно Гоббсу «благо» есть предмет желания. «Согласно определению Гоббса, человек может подтвердить окончательно свои этические суждения, показав, что он делает интроспективную ошибку о своих желаниях. Согласно определению Юма, кто-то может подтвердить (грубо говоря) свои этические суждения, приняв участие в голосовании. Подобное использование эмпирического метода, в любом случае, кажется далеким от того, что мы принимаем как доказательство, и подвергает сомнению полную релевантность определений, которые подразумевают его»162. Стивенсон считает необходимым исключить любую форму голосования по вопросу и отвергает теории интереса в их классической форме, поскольку даже из истинного утверждения о коллективном согласии в интересах никак не следует ни релевантное определение понятия «благо», ни индивидуальное принятие коллективного соглашения. Из эмпирических качеств самого предмета также никаким образом не следует то, является ли такой предмет «благом». «Вместо того мы, должно быть, используем какое-то понимание „блага“, которое не определяется релевантно в терминах чего-либо научно познаваемого»163. Стивенсон утверждает, что есть три ключевых требования, которым отвечает релевантное понимание «блага», но которые не выполняются классическими теориями интереса: во-первых, благо должно быть предметом рациональных разногласий, во-вторых, оно должно быть «притягательным» (magnetic), и, в-третьих, оно не должно быть определяемым с помощью научного метода (эмпирически). Хотя традиционные теории интереса этим требованиям не отвечают, «это не подразумевает, что „благо“ должно быть объяснено в терминах Платоновской Идеи, Категорического императива или быть уникальным неанализируемым качеством»164.
В классических теориях интереса этические утверждения предоставляют информацию об (индивидуальных) интересах при данных условиях, на практике такие высказывания не описывают факты, а являются средством влияния на других людей, средством убеждения. В самом деле, у человека нет смысла в констатации наличия у себя таких-то и таких-то интересов, подобные утверждения не станут предметом разногласия (столь характерного для этических вопросов). От цели употребления этических высказываний Стивенсон переходит к вопросу значения таких высказываний и выделяет два типа высказываний: дескриптивные, выражающие уверенность в факте, и динамические, не выражающие уверенности в каком-либо факте, но выражающие эмоции, направленные на создание настроения, содержащие суггестию. Стивенсон вводит понятие эмоционального значения слова, которое обозначает «тенденцию данного слова, возникающую в течение истории его употребления, порождать (или порождаться) аффективные реакции в людях»165. В конце концов, автор модифицирует теорию интереса таким образом, чтобы она отвечала трем заданным ранее критериям. В таком случае дискуссия об этических утверждениях является не разногласием о вере (в факт), а разногласием об интересах и потому не может быть разрешена рационально. Проблема «притягательности» решается просто, поскольку рассуждения Стивенсона включают и заинтересованность говорящего. Наконец, третье и самое важное ограничение, введенное Стивенсоном, касается роли научного метода, эмпирических данных и согласия о вере (в факт) в разногласии об интересах. Эмпирический метод является релевантным этике лишь постольку, поскольку касается предмета или фактора, ставшего объектом нашего интереса. Эмпирический подход не является достаточным для достижения этического согласия. Этические утверждения не являются дескриптивными и не могут раскрыть некий особый тип априорной истины, который бы руководил самими интересами людей, «…спросить, что есть благо, означает просить оказать влияние »166. Таким образом, Чарльз Стивенсон вносит лингвистические коррективы в классические теории интереса и более подробно формулирует базовые принципы метаэтической теории эмотивизма.
В свою очередь, от себя к приведенным выше рассуждениям хотелось бы добавить вот что: высказывания, касающиеся ценностей, могут быть дескриптивными, и такие высказывания описывают человеческое оценивающее поведение и реакции на конкретные предметы. Предложение «человек A проявляет в своем поведении реакцию B на предмет C» является дескриптивным, оно протоколирует индивидуальное оценивающее поведение (если же описывается коллективное поведение, речь идет о социологическом предложении, как писал Айер). Однако из такого дескриптивного высказывания не следует ни суггестия в пользу такой же реакции В адресата высказывания на предмет С, ни утверждение о существовании метафизической истины, детерминирующей единообразную для всех людей реакцию В на предмет С. Человеческие реакции на предметы, которые иллюстрируются ценностными высказываниями, определяются только физиологией авторов таких высказываний и содержанием памяти авторов таких высказываний, их благоприобретенными навыками (и потому с течением времени человек может менять свою поведенческую реакцию на предмет). Ни черты физиологии, в силу неопределенной изменчивости, ни опыт не являются единообразными для всей человеческой популяции. Реакции на предметы в итоге являются средствами приспособления к среде, то есть сама способность связывать эмоциональные реакции и предметы, закреплять условный рефлекс играет биологическую роль. Собственно ценностные высказывания не являются дескриптивными, не имеют истинностного значения, играют суггестивную роль, как об этом писал Стивенсон, и являются средством влияния на людей, поведенческим жестом. Несогласие с категоричными ценностными утверждениями не является несогласием относительно фактов (рациональным разногласием), но представляет собой непроизвольную реакцию защиты от эмоционального насилия.
Сама способность вырабатывать реакции на раздражители имеет большое биологическое значение, поскольку служит цели приспособления к меняющимся условиям окружающей среды, средством адаптации, и страх перед физической угрозой или протест против насилия являются вполне понятными реакциями современного европейского горожанина, равно как и жажда кровной мести для обитателя афганских гор или африканской саванны. Если оценочное утверждение выражает реакцию на конкретный предмет, с которым человек столкнулся на собственном опыте, то такая оценка выполняет свою непосредственную роль. Но все дело в том, что при помощи риторики можно вызвать у широкой аудитории категоричные реакции на общий класс предметов или событий, с которыми аудитория вообще может не быть непосредственно знакома (легко вспоминаются «пятиминутки ненависти» из романа Джорджа Оруэлла «1984»). Одна из самых больших проблем религий заключается в том, что религиозные учения часто провоцируют категоричные эмоциональные реакции паствы по отношению к воображаемым угрозам или безобидным, с точки зрения атеиста, формам поведения. Кроме того, категоричные оценочные суждения в равной степени свойственны и разрушительным идеологиям, вроде большевизма или нацизма. Эти последние вообще слишком похожи на религию…
Другой важной стороной проблемы блага и спасения является то, что религиозные учения противопоставляют действительность и свои представления об избавлении от страданий и о совершенстве: «Мир несовершенен потому, что не соответствует моим представлениям о совершенстве, моим идеалам . Мир порочен, греховен, полон страданий и страстей потому, что лично мне в нем плохо». Напрашивается закономерный вопрос: что в человеческой жизни порождает конкретные представления о совершенстве? Не является ли представление о совершенстве и благе очевидно вторичным опыту и окружающей действительности, проявлением реакции на раздражители, формой эскапизма, бегства от жизни и реальности? В пользу последнего убежденно высказывался Фридрих Ницше, который считал отрицание жизни в пользу умозрительных идеалов проявлением слабости. Оценочное суждение о действительности не сообщает ничего нового об этой действительности, но характеризует автора такого высказывания. Поиск религиозного восхождения можно расценивать не как духовное достижение, а как слабость, неспособность принять условия жизни и свою судьбу такими, каковы они есть, добиться успеха на деле, а не в воображении.
Бессмысленно искать истоки ценностей и в данных естественных наук. Наука не может быть ценностным арбитром. Хотя существуют ценности, которые делают возможным беспристрастное научное исследование как социальную деятельность, например убеждения о ценности свободной критики в научном сообществе, эти ценности не имеют никакого отношения к предмету наук и никак не сказываются на окончательных решениях об истинности или ложности тех или иных научных выводов (как бы сказал Поппер, контекст открытия — это одно, а контекст обоснования — это другое; не важно, как и почему совершаются открытия и что приходит в голову ученым-первооткрывателям, это никак не влияет на логические принципы проверки теорий). Из научных данных нельзя сделать выводы в пользу того или иного политического устройства общества, тех или иных общественных вкусов или настроений, эстетических или моральных суждений.
Хотя некоторые ученые иногда в своих выступлениях, обращенных к широкой публике, и научно-популярных сочинениях могут говорить об эстетических качествах Вселенной, как это делал Альберт Эйнштейн, это имеет лишь риторическую цель. Если верно то, что оценочные суждения являются лишь способом адаптации, приспособления к условиям окружающей среды, то любые суждения о моральных или эстетических качествах окружающей нас действительности имеют не больше смысла, чем утверждения о «жаберности» или «плацентарности» этой действительности. Нам могут нравиться сосновые леса или песчаные пляжи, но лишь потому, что мы приспособлены к подобным условиям. Можно было бы в порядке мысленного эксперимента представить космических пришельцев из ледяного мира, в котором метан существует в жидком состоянии. Для них Земля могла бы показаться поистине кошмарным местом, каким для нас кажется Венера. В конце концов, мы можем называть наблюдаемую нами Вселенную прекрасной и величественной, можем называть ее уродливой или отвратительной, можем называть ее смешной или ничтожной, но все эти эпитеты человеческих языков не будут иметь ни малейшего значения. Астрофизические масштабы пространства и времени таковы, что вся история существования человеческого вида, включая историю существования языков и семантики, в сравнении с хронологией существования звезд представляет собой лишь исчезающе малый, ничтожный временной промежуток. С точки зрения атеиста, усматривать связь между человеческими языком, культурой, семантикой, мифами и религиями, с одной стороны, и астрофизическими процессами, с другой — все равно что допускать зависимость планетарной тектонической активности от жизни колонии муравьев.
2. Может ли человек жить без религиозной веры?
Важной стороной мифа о религии как источнике блага и атеизме как отсутствии блага является также образ «неполноценного атеиста». Как уже было сказано, атеист — это понятие, подразумевающее очень широкое обобщение (отсутствие интереса к метафизическим и религиозным убеждениям), которое едва ли можно связать с каким-то образом жизни или манерой поведения. Но «неполноценный атеист» — это узнаваемый персонаж, типаж, троп художественной литературы, кино и религиозной риторики. Идеальным примером могут послужить короткие нравоучительные комиксы американского христианина-евангелиста Джека Томаса Чика (Jack Thomas Chick), которые он называет «трактатами». «Неполноценный атеист» находится в состоянии конфликта с религиозными убеждениями в силу каких-то драматичных жизненных событий. Либо же он отрицает религию, не будучи хорошо лично знакомым с ней (не испытав религиозного опыта, не убедившись в мудрости религиозного учения или не пережив трудное испытание). На самом деле данный персонаж явно религиозен, но не может самостоятельно преодолеть внутренний конфликт или собственное невежество. Логика развития сюжета о «неполноценном атеисте» предполагает, что рано или поздно этот персонаж испытает катарсис и «придет к богу». Очевидно, что художественный вымысел, мифы обыденности и литературные тропы — плохой источник знаний о поведении конкретных людей.
Те, кто не считает метафизические или религиозные убеждения значимыми или имеющими смысл, могут быть счастливы, опытны, предусмотрительны и полноценны во всех других отношениях.
Они могут обходиться без религии так же, как и без коллекционирования марок или без игры в боулинг. Справедливо и обратное: религиозный, глубоко верующий человек может оказаться невежественным, агрессивным, неспособным наладить собственную жизнь или отталкивающим своими манерами. Глубоко верующий человек может перестать верить, причем не из-за личной трагедии или мучительного экзистенциального кризиса, а по довольно прозаичным причинам, вроде трезвого размышления. Если верно, что религия представляет собой своего рода субкультуру, а не изменяющий персональные качества этап «духовного развития», принятие религии не может исправить изъяны характера или личные эмоциональные проблемы, что бывает иногда слишком заметно в случаях отдельных новообращенных или представителей духовенства.
Вариантом сюжета о «неполноценном атеисте» является сюжет об «атеистах в окопах»: будто бы всякий, кто окажется в очень трудных или опасных для жизни условиях, например на войне («в окопах»), неизбежно обратится к религии за помощью. Но те из верующих, кто ссылается на подобный миф в качестве аргумента о неполноценности атеизма, зачастую рассуждают о войне или любой по-настоящему опасной ситуации совершенно умозрительно, а о страхе и мужестве судят лишь по собственному характеру. Среди бесчисленного количества людей, которым приходилось проявлять мужество в момент опасности, многие вообще могли понятия не иметь о религиозных учениях, а другие могли просто не воспринимать религиозные жесты или мысли как что-то полезное или способное помочь. В конце концов, история знает множество войн, выигранных язычниками или атеистами, а также проигранных иудеями, христианами и мусульманами.
Обращение к религии в момент опасности само по себе напоминает магию, как ее описывал антрополог Джеймс Фрэзер: это попытка изменить ситуацию в свою пользу при помощи магического жеста или заклинания. Верно то, что есть немало суеверных людей, но верно также и то, что есть огромное количество людей, безразличных к суевериям. В конце концов, единственный способ справиться с задачей заключается в том, чтобы предпринять что-то, несмотря на трудности. Соблюдение правил дорожного движения лучше, чем пластиковые иконки под лобовым стеклом автомобиля. Тяжелую болезнь лучше пытаться излечить под наблюдением врача, а трата времени на шарлатанов-целителей или религиозные обряды может быть не только бесполезна, но и опасна, поскольку будет упущено время. В условиях стихийного бедствия или на поле боя будут в безопасности скорее те, кто не теряет голову и имеет план действий. Человеку, прибегающему к молитвам в момент трудностей, было бы опрометчивым считать свой характер образцовым: в мире всегда могут быть люди сильнее, трудолюбивее, мужественнее или опытнее.
В заключение можно добавить любопытный факт: в США существует «Военная организация атеистов и свободомыслящих» (Military association of atheist and freethinkers, MAAF), объединяющая ветеранов, не исповедующих религии. Само ее существование связано с аргументом об «атеистах в окопах»! Не является ли сам факт существования этой организации достаточно красноречивым?
3. Религия и мораль. О нацизме и большевизме
Допустим, что мужество без религии возможно, но возможна ли без религии мораль? Ведь один из главных аргументов сторонников религий заключается в том, что религия является источником и основанием морали в обществе. Религия создала традиционную мораль, хранит традиции и обычаи. Умаление роли религии в общественной жизни будто бы влечет за собой нравственную деградацию. Религиозные учения — это единственная причина для соблюдения нравственных норм. Некоторые верующие, в числе которых был Бенедикт XVI, утверждают, что тоталитарные режимы XX века, нацистская Германия и сталинский СССР отличались своей жестокостью потому, что были атеистическими, следовательно, атеизм несет ответственность за преступления этих государств. Верующие люди, таким образом, стремятся занять в вопросах морали позицию арбитров, но отказывают атеистам в способности к этическому поведению.
Главным вопросом в разговоре о морали является ее происхождение, природа и динамика. Во-первых, из описанного выше аналитического метода исследования оценочных суждений следует, что дискуссия об этических интересах является не дискуссией о фактах, а разногласием об интересах и не может быть рационально разрешена. Строго логически, утверждение о том, что убийство — это плохо, не является ни истиной, ни ложью. Во-вторых, этические нормы являются частным случаем человеческих традиций, исследованием которых занимается антропология. Сравнительная антропология, исследование множества культур и обычаев, показывает поразительные различия между человеческими культурами, в том числе в вопросах морали. К примеру, многое в иудейском Священном Писании, на которое опирается и христианство, по современным меркам выглядит преступным, как описанное в Книге Иисуса Навина покорение Ханаана, или шокирующим, как история с пророком Елисеем, детьми и медведицами в 4-й Книге Царств. В-третьих, корни человеческих этических привычек могут быть связаны с поведением животных, поэтому вопрос происхождения морали также касается этологии. Вопрос о том, почему некоторым видам животных вообще свойственно коллективное поведение (волки и одичавшие собаки охотятся стаями с жесткой иерархией, а кошки охотятся поодиночке), относится к компетенции эволюционной биологии и нейробиологии.
Из перечисленного можно сделать вывод, что человеческие этические утверждения нельзя обосновать логически на основании утверждений о фактах, и вообще такие утверждения играют другую, суггестивную и экспрессивную роль. Человеческие этические чувства имеют биологическое происхождение, как и вообще коллективная природа поведения человеческого вида, а человеческие моральные традиции на протяжении истории значительно менялись (столкновение с чужой культурой может вызвать «культурный шок»). Религии, таким образом, не могут претендовать на истинность своих этических учений, если таковые вообще есть в составе этих религиозных традиций (христианство фундаменталистов или современный радикальный ислам с позиции цивилизованного демократического общества аморальны). Религии также не являются источником морали, поскольку, во-первых, способности к общественному поведению, взаимные чувства, врожденные ограничения внутривидовой агрессии (довольно сильные у хорошо «вооруженных» видов хищников, вроде тигров или ядовитых змей, и слабые у видов вроде голубей или приматов) и даже примитивные обычаи в форме передающихся через поколения навыков (у дельфинов и шимпанзе) встречаются и в мире животных. А во-вторых, наиболее общие формы обычного права (деление людей на «своих» и «чужих», деление территории племени на «мужскую» и «женскую», обряды инициации) встречаются у всех известных человеческих популяций и потому не могут быть связаны ни с одной религией.
Вопросы, заслуживающие более подробного рассмотрения, заключаются в том, каковы этические стороны религиозных учений, играет ли религия какую-то особенную роль в становлении общественной морали, какова документальная история существования религиозных традиций в сравнении с их учениями и можно ли сказать, что атеизм в самом деле подталкивает общество к моральной деградации.
Связь религий с моралью не всегда очевидна. Иудаизм включает в себя знаменитейший сюжет о встрече Моисея с богом на горе Синай, но все дело в том, что десять заповедей Моисея представляют собой обычное право иудейского народа, причем первые четыре заповеди имеют исключительно культовую, а не моральную природу. В заповедях Моисея нет ничего принципиально нового в сравнении с обычным правом и традициями других культур. Заповеди блаженств из Нагорной проповеди Христа вообще не являются поведенческими требованиями и представляют собой скорее манифест образа жизни («Блаженны ищущие…»). Если иудаизм представляет собой обычаи отдельного народа, то христианство имеет своей целью не поддержание общественной морали или традиций, а достижение индивидуального метафизического восхождения (мысль о котором чужда иудаизму). Ислам значительно более конкретен и прагматичен, но он и мыслился изначально пророком Мухаммедом как имеющий политические цели. В Коране, как известно, описывается порядок обложения данью (джизьей) покоренных немусульманских авраамических народов (христианских и иудейских). Буддийский восьмеричный путь и четыре благородные истины направлены на то, чтобы преодолеть все, что связывает сознание с иллюзорным бытием. Как и христианство, буддизм в первую очередь — традиция индивидуального метафизического восхождения, но в нем чувства справедливости, милосердия и возмездия — лишь источники страданий.
Очевидно, что и цели, и этические представления религий различны, впрочем, как и сами религии в целом. Цель христианства кощунственна для иудеев, а буддистское стремление к «растворению» индивидуальности противоположно христианскому стремлению к преувеличению этой индивидуальности. Что еще более важно, есть фундаментальная разница между архаичными иудейскими или средневековыми мусульманскими обычаями и моральными нормами и законами современного общества. Моральные нормы современной западноевропейской цивилизации принадлежат Новому времени и эпохе Просвещения, и их ядром является мысль о естественных правах, присущих человеку по природе и неотчуждаемых. Современное международное право установилось после Второй мировой войны, его моральным ядром является юридическое понятие прав человека. И если главной моральной ценностью современного светского общества являются права человека, то главными моральными ценностями религий являются обычай, культ и идея о метафизическом восхождении, то есть вещи для светского, неверующего человека по определению чуждые, бессмысленные, не имеющие никакой ценности. Это различие определяет фундаментальный конфликт между религиями и современным обществом: светское общество, защищающее права человека, не может поступиться своими принципами ради религиозных чувств, священных предметов и эзотерических целей, а для верующего человека законодательство и философские идеалы Просвещения безразличны в сравнении с целями и ценностями его веры.
Атеизм в наиболее общем смысле не только не подразумевает поддержки европейских представлений о правах человека, но вообще не влечет за собой никаких этических убеждений. Важнее то, что само существование светского общества, законодательства и этики говорит, что религия не является обязательным условием соблюдения норм морали. Впрочем, архаичный обычай или римское частное право тоже доказывают возможность существования моральных чувств и норм безотносительно религии. Атеист может быть ближе к современной морали, чем верующий человек, поскольку между атеизмом и представлением о правах человека нет конфликта (хотя нет и логического следствия). С точки зрения атеистов, для морального поведения или какого-либо поведения вообще нет ни малейшей необходимости в метафизическом обосновании , достаточно простых чувств и потребностей, например потребностей во взаимопомощи и сочувствии. В то же время мысль о том, что верующие соблюдают какие-либо моральные правила лишь потому, что ожидают метафизического посмертного воздаяния, пугает: человек, ведущий себя морально лишь из страха и неспособный к эмпатии, является социопатом.
Верующие часто связывают атеизм и разрушительные диктатуры XX века — национал-социалистическую и большевистскую. Например, глава христиан-католиков Йозеф Ратцингер, известный как папа римский Бенедикт XVI, обвинил атеистов в холокосте и других преступлениях немецкого национал-социализма 30–40-х годов XX века. Это вызвало возмущение известнейшего и выдающегося пропонента атеизма и естественных наук Ричарда Докинза, который еще в своем известном сочинении «Бог как иллюзия» подчеркивал широко известный исторический факт того, что в нацистской Германии атеистов преследовали, а Адольф Гитлер прямо называл себя католиком.
Разумеется, невозможно установить, был ли Гитлер искренен или же лишь поддерживал отношения с католиками и протестантами по прагматическим политическим мотивам (если первое вообще исключает второе), и каковы на самом деле были его довольно сложные и несколько запутанные взгляды. Если кто-то возьмется спекулятивно утверждать, что Гитлер был неискренен и видел в религии лишь инструмент, то в ответ в точности в том же можно голословно упрекнуть даже папу римского. Важнее то, что существуют подробно изученные исторические свидетельства сотрудничества представителей католического христианства и немецкого протестантизма с НСДАП, выступлений Гитлера в защиту христианства в Германии, как в 1928 году и в рамках выборной кампании 1933 года, так и в 1941 году, уже после начала Второй мировой войны. Широко известно также, что нацистская Германия и Ватикан заключили конкордат 20 июня 1933 года, хотя Ватикан в последующие годы и подвергал Германию критике за нарушения условий этого конкордата, в частности в энциклике папы Пия XI от 14 марта 1937 года. В то же время известны и высказывания Гитлера о борьбе с противниками христианства и в особенности об искоренении атеизма (в берлинской речи от 24 октября 1933 года). Короче говоря, можно уверенно сказать, что Адольф Гитлер стремился заручиться политической поддержкой немцев-христиан и Ватикана, а атеизм для него был связан с ненавистным коммунизмом.
Что касается большевизма в России после 1917 года, Владимир Ульянов и большевистские революционеры действительно прямо высказывались против религии и в пользу марксистских материалистических взглядов. Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 23 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» положил начало традиции разделения религии и государственной жизни в России, а 30-е годы XX века стали временем активнейшей антирелигиозной пропаганды и уничтожения христианских храмов, в числе которых был уничтожен и храм Христа Спасителя в Москве. Большевики видели в Церкви контрреволюционную силу. Таким образом, если Адольф Гитлер искал в религии чисто политическую опору для своей власти, то и Владимир Ленин боролся с христианством по исключительно политическим причинам. Это становится особенно очевидным, если вспомнить, как Иосиф Сталин обратился к религиозным чувствам народа СССР в момент военного кризиса 1941 года, когда РККА была отброшена вермахтом до Москвы. То есть советский режим действовал по отношению к религии прагматически, а политика преследований была неразрывно связана с политикой контроля: достаточно сказать о том, что институт патриаршества впервые со времен Петра I был восстановлен в России после Октябрьской революции, когда патриархом был избран Тихон. Окончательно контроль советской власти над Русской православной церковью утвердился при следующем патриархе, Сергии, чье имя породило довольно конфликтный термин «сергианство», подразумевающий моральную сделку со Сталиным.
Что могут означать все эти исторические данные для атеизма? Как уже говорилось, атеизм не влечет за собой никакие политические убеждения. Даже если бы немецкий национал-социализм был противопоставлен религии, это не позволило бы утверждать, что атеисты несут ответственность за деяния нацистов просто в силу того, что атеизм является лишь убеждением о бессмысленности религиозной метафизики и не объединяет людей ни в чем другом, в том числе и в политических пристрастиях. Именно по этой причине национал-социалисты и не видели в атеизме политический инструмент, в отличие от христианской религии. То же верно и в отношении большевизма в России: большевики не просто критиковали религию как собрание метафизических заблуждений, но активно боролись с конкретной церковью, в которой видели политического противника. Как только это стало необходимым, открытая борьба сменилась опосредованным политическим контролем. Можно сказать, что атеизм в чистом виде является плохим инструментом тоталитарной политической манипуляции. Атеизм неудобен тем политикам, которые стремятся манипулировать широкой публикой просто потому, что не содержит средств категорического убеждения. Любой диктатор скорее будет искать опору в радикальных и выразительных идеалах, чем в принципах критической рациональности.
Интересным и крайне важным является то, что большевистская антирелигиозная риторика была связана не с преимуществами научного метода, а с метафизически и оценочно нагруженным марксизмом, хотя большевики и понимали марксизм как нечто, имеющее отношение к научному знанию. Но все дело в том, что марксизм не имеет никакого отношения к естественным наукам. Во-первых, само представление Маркса о диалектике заимствовано у Гегеля в его «Феноменологии духа» и восходит к запутанным метафизическим рассуждениям Шеллинга и Фихте о пределах субъекта, «Я». Причудливое умозрительное взаимодействие тезиса, антитезиса и синтеза не имеет никакого отношения ни к естественным процессам вроде эволюции, ни к историческим событиям, ни к научному методу, как это подробно доказывал Карл Поппер в работах «Что такое диалектика?» и «Нищета историцизма». Во-вторых, марксистская теория истории является всего лишь одним из философских учений о социальном детерминизме, каких в XIX веке было множество. По этой причине Маркс не выделяется в своих суждениях на фоне таких авторов, как Монтескье, Дюркгейм, Конт или Гобино, как об этом писал Питирим Сорокин в работе «О так называемых факторах социальной эволюции». «Капитал» Маркса не менее умозрителен и спекулятивен, чем сочинение «О духе законов» Монтескье. Все подобные учения были связаны с умозрительными поисками наиболее общих факторов, определяющих абстрактное существование общества. При этом внимание уделялось абстракциям, вроде «соотношения производительных сил и производственных отношений», но никогда — собственно эмпирическому поведению людей, которое всегда и имеется в виду, когда речь заходит о политике или экономических отношениях.
На основании сказанного выше можно сделать однозначный вывод: антирелигиозный пафос Маркса и, соответственно, российских большевиков под предводительством В.И. Ульянова, с одной стороны, и являющийся следствием антиметафизической программы аналитической философии и прогресса естественных наук современный атеизм имеют совершенно разные основания, логику и происхождение. Марксизм категоричен, бескомпромиссен, оценочно нагружен и очень далек от принципов критической рациональности, лежащих в основании научного метода. То есть по своим принципам похож на религию. Некоторые верующие иногда отождествляют марксизм и теорию эволюции Чарльза Дарвина, но это либо заблуждение, либо намеренная ложь. Ни исследование Дарвина, ни современная эволюционная биология не имеют ровным счетом никакого отношения к чисто философским взглядам Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Что же касается религиозного характера большевистского мифа, достаточно лишь вспомнить, что главный культовый персонаж большевиков до сих пор лежит в форме мумии в своей почетной пирамиде (или это погребальный курган конунга?) на Красной площади Москвы.
Нескольких слов заслуживает и современный политический режим, который активно использует православную Церковь в качестве политического инструмента. Желая не допустить гражданского протеста, президент и его окружение разорвали со средним классом негласный общественный договор эпохи высоких цен на нефть. Теперь правящим режимом на полную мощность включены все мыслимые механизмы пропаганды, причем одновременно. Миф нынешнего режима во многом напоминает советский или российский имперский мифы, но доведен до абсурда и еще более внутренне противоречив. Суть мифа заключается в исторической и культурной исключительности России, окруженной коварными, невежественными и бездуховными врагами вроде американцев-«пиндосов», распространяющими порочную и развращающую мысль о правах человека и свободе совести. Внутренние враги не менее коварны и омерзительны, это подлые «либерасты», повинные в «лихих девяностых» и при этом еще нагло требующие соблюдения своих прав ; безбожные умники и городские бездельники «хипстеры»; протестующие против этнической преступности «националисты-фашисты»; создающие профсоюзы «радикалы-террористы»; а также совершенно классические «жиды» и «педики» (где-то в преисподней Йозеф Геббельс утирает скупую слезу умиления). Сюжет об осажденной крепости, как его называл Борхес, главный фетиш любого несправедливого правителя. Этот миф кажется вдвойне парадоксальным, если учесть, что правящая элита хранит свои капиталы и воспитывает своих детей как раз на враждебном Западе, а под Ульяновском размещена база НАТО. Выходит, что режим, погрязший в роскоши, желающий жить по высшему классу, превращать ресурсы страны в собственные богатства и владеть имуществом в Лондоне, одновременно включает большевистскую, нацистскую, имперскую и теократическую пропаганду сразу . Вот чего хочет президент и его окружение: жить, как Ротшильды, но править, как Махмуд Ахмадинежад и Ким Чен Ир. А Русская православная церковь играет в этой незамысловатой схеме не последнюю роль, причем стремлению патриарха Кирилла к власти и богатству позавидовали бы Папы Римские эпохи Возрождения. Любому, кто знаком с историей, нетрудно догадаться, чем все может закончиться.
В заключение остается лишь отметить, что отождествление верующими диктатур и атеизма представляется случаем двойных стандартов. К примеру, то, что заключенные-рецидивисты так называемой «отрицательной направленности» используют православную христианскую символику в своих татуировках, не наводит никого на мысли о связи религии и организованной преступности. Вообще, когда преступники, например такие одиозные, как серийные убийцы, оказываются верующими, никто не обвиняет верующих вообще в причастности к серийным убийствам.
4. Религия и миф. Кто не знает о сходстве Иисуса и Осириса?
Для верующего человека содержание его религии — откровение. Откровение не может быть вторичным. Но для атеиста, знакомого с мифами самых разных народов и структурной антропологией, в содержании мировых религий нет ничего необычного или нового. Верующие люди очень высоко ценят чудеса, как произошедшие в прошлом, так и будто бы происходящие в настоящее время. Но само утверждение о чуде для атеиста есть признак мифа, поскольку сама роль чудесного события есть художественный эффект, влияние на аудиторию. Знакомому с принципами культуры по трудам Эдварда Эванс-Причарда, Джеймса Фрэзера, Мирча Элиаде или Клода Леви-Стросса человеку трудно воспринимать религиозные сюжеты или религиозные ритуалы как нечто новое и необычное, отличное от всей прочей мифологии человеческих культур.
В XIX веке, когда сформировалось само понятие гуманитарных наук и бурно развивались филология и антропологические исследования неевропейских культур, исследователи обратили свое внимание на то, что в различных художественных литературных сюжетах и мифах встречаются повторяющиеся элементы. Хотя имена персонажей и места действия сюжета могут быть разными, присущая разным сюжетам структура одинакова. Это может быть справедливо как в отношении античных эпосов и классических трагедий, так и в отношении современной развлекательной художественной литературы и кино. Для описания структурных элементов художественных фикций структуралисты ввели понятия тропов, нарратива, избыточности. Знаменитый термин Жака Деррида «деконструкция» обозначает метод выявления присущих определенным жанрам повторяющихся структурных элементов посредством намеренного нарушения их стереотипного использования. Таинственная и зловещая книга, оказывающаяся утерянным томом Поэтики Аристотеля, — вот пример деконструкции. Вся современная постмодернистская литература построена на цитировании, деконструкции, использовании культурных референций, ироническом использовании известных сюжетов.
И антропологические исследования, и филология обнаруживают повторяющиеся мотивы и в религиях. С точки зрения культуролога, между функционирующей религией и архаичными мифами разницы не существует. К примеру, известно множество божественных и мифологических персонажей вроде Осириса, Диониса или Персефоны, которые умирали и воскресали . Иисус Христос как персонаж, безусловно, может быть отнесен к этому множеству. Уже неоднократно упоминавшийся Джеймс Фрэзер считал сюжеты об умирающих и воскресающих персонажах связанными с культами плодородия и даже находил в христианских мотивах «хлеба и вина как тела и крови» очевидное наследие культов плодородия. Кстати говоря, христианский ритуал причастия, евхаристия, — одна из самых странных и удивительных сторон христианской религии. Многие, включая античного неоплатоника Порфирия и одного из величайших религиоведов Мирча Элиаде, приходили к выводу о том, что евхаристия — это ритуал магического каннибализма . Католики и православные христиане воспринимают причастие буквально. Якобы при причащении происходит чудо пресуществления хлеба и вина в плоть и кровь Иисуса Христа. Это важный момент христианского вероучения, которому посвящены весьма странные патристические тексты («Иисус сладчайший»). Но антропологу это напоминает ритуалы архаичных племен каннибалов, в которых воины племени поедали части своих побежденных противников, чтобы приобрести их силу. Совершая причастие, христиане как бы приобретают богочеловеческую природу Христа. Конечно, современные апологеты станут интерпретировать этот ритуал несколько иначе, но его структура, назначение и сущность очевидны. И это по-своему поразительно.
Вторичность и откровенно мифологический характер присущи всем сторонам любой существующей религии. Паломники, приезжающие в Иерусалим, зажигают от горящей благодатным огнем лучины тридцать три свечи, чтобы увезти эти соприкоснувшиеся с чудом свечи с собой. То же касается и освящения религиозных предметов в святилище в храме в Вифлееме и на Камне миропомазанья в храме Гроба Господня. Все это слишком очевидным образом напоминает магию контакта, другой пример которой — волосы жертвы в кукле Вуду. Изображение распятия Иисуса Христа и христианский культ святых мучеников играют такую же роль, что и человеческие жертвоприношения у ацтеков, сюжет о Саньке Матросове в СССР или современные телепередачи о преступлениях и войнах: образ смерти, насилия и физической угрозы трудно игнорировать, он всегда вызывает сильные чувства . Чувство «сакрального» начинается с ощущения страха . По этой причине жертвоприношение или его замещение — часто главный ритуал культа. Об этом писал Рене Жирар в исследовании «Насилие и священное».
Вот почему для атеиста нет принципиальной разницы между религиозными учениями, мифами или художественными произведениями: все они устроены одинаково (помимо того, что все это вымысел или вообще буквальная бессмыслица). Сюжет существует в целях произведения впечатления на аудиторию, содержит конфликт, протагониста с антагонистом и путь к разрешению конфликта. Талантливое художественное произведение оригинально. Хорошая литература — интеллектуальная игра, предложенная автором читателю, в которой интересен и выразителен каждый элемент, а плохая литература жертвует непротиворечивостью сюжета, оригинальностью последовательности элементов и изобретательностью в угоду прямому авторскому высказыванию.
Занятно, что религиозные сюжеты зачастую интереснее в изложении литераторов и режиссеров. Знаменитые примеры — фильм Мартина Скорцезе «Последнее искушение Христа», снятый по роману Никоса Казандзакиса, «Иуда Искариот» Леонида Андреева, изложение истории Христа в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова и рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. С моей точки зрения, особенно хороша последняя, впрочем, как и все произведения Уэббера. Честно говоря, мне кажется, что «Иисус Христос — суперзвезда» имеет большую художественную ценность, чем собственно Евангелия. В рок-опере нет вульгарных чудес, конфликт интереснее, роль Иуды сложнее (Иуда вообще всегда был любим писателями, уж больно противоречива его роль), и аудитория вольна в своих интерпретациях и симпатиях, да музыка там лучше. Полагаю, что христиане уже смирились с той простой мыслью, что история Христа является таким же достоянием художественной литературы, как история Геракла или Сократа (ведь и саму историю Христа можно рассматривать как литературное сочинение по мотивам более схематичных мифов об Осирисе или Бахусе).
Как видите, аналогия между религиозным мифом и художественным сюжетом слишком очевидна, чтобы просто так выкинуть ее из головы. Поиск распространенных литературных и мифологических тропов в идеологиях, политических мифах, городских легендах и других «системах убеждений» — вообще хорошее упражнение для ума, позволяющее иначе взглянуть на все то, что Морис Хальбвакс называл «коллективной памятью» — огромным множеством сюжетов, которое мы называем культурой.
5. Об истории религии
Огромной и невероятно важной проблемой в вопросе о религии и морали является то, что в христианстве называется экклесиологией, учением о Церкви. Если чудесные события, приписываемые основателям религий, стали известны нам сегодня лишь благодаря религиозным свидетельствам, то настоящая история организованных религий на протяжении многих и многих поколений является предметом многочисленных и подробных свидетельств современников и записей историков. Любому прекрасно известны знаменитые слова Иисуса Христа в его Нагорной проповеди: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? » (Мф 7:16). Вот один из важнейших вопросов, касающихся существования религий как таковых: каковы исторические плоды существования организованных религий?
Подробный ответ на этот вопрос требует масштабного исследования. Религии существуют на протяжении длительного времени, и есть слишком много конкретных исторических подробностей, заслуживающих особого внимания. Одна только история католической инквизиции начинается в XII веке, ее наиболее значительные события происходят в XVI веке, во времена открытого конфликта католичества и протестантизма, а сама организация существует в измененной форме и по настоящий момент. Хотя широкой публике прекрасно известно, что история инквизиции — это один из наиболее масштабных эпизодов преследования, пыток и уничтожения христианами еретиков по одним только причинам богословских и философских разногласий , некоторые неточности и пробелы в знании современного читателя о событиях из истории инквизиции открывают для апологетов христианской религии просторное поле для демагогии.
К примеру, широко известна участь Джордано Бруно, а также распространен миф о том, что Бруно был сожжен за утверждение о существовании «множества обитаемых миров». Судя по всему, в этом нет смысла, поскольку еще в 1277 году по распоряжению папы Иоанна XXI был предан анафеме догмат о существовании лишь одного земного мира, как принижающий могущество Господне. О подлинной причине приговора Бруно есть разногласия, но можно предположить на основании и самого текста приговора («Ты, брат Джордано Бруно, сын покойного Джованни Бруно, из Нолы, возраста же твоего около 52 лет, уже восемь лет назад был привлечен к суду святой службы Венеции за то, что объявил: величайшее кощунство говорить, будто хлеб пресуществлялся в тело и т. д. »), и исследований Ю.Л. Менцина или Л. Лернера и Э. Госселина, что подлинная причина очевидна и заурядна — отрицание буквального свершения таинства причастия, христианского ритуала евхаристии, при котором якобы вино и хлеб пресуществляются в плоть и кровь Иисуса Христа (это очень странный ритуал, о котором следует сказать отдельно; на момент напряженного конфликта католичества и протестантизма это был болезненный вопрос). Пусть даже Джордано Бруно и не был «мучеником-астрофизиком», — этот человек был подвергнут пыткам и сожжен заживо из-за богословских разногласий, и этот простой и очевидный факт обычно как-то упускается из виду, когда за дело берутся христианские апологеты.
Другим нюансом истории инквизиции является то, что сама она не вершила приговоры, а передавала еретиков в руки гражданского правосудия. Но тот простой факт, что в законодательстве того времени существовали понятия религиозных преступлений, в том числе ереси и богохульства как преступлений, предусматривавших и смертную казнь через сожжение, бесспорен, так же как и то, что инквизиторы прекрасно знали о последствиях для их подследственных.
Разумеется, средневековая инквизиция XII–XIII веков, а также испанская, португальская и римская инквизиция Нового времени — далеко не единственные эпизоды насилия и преступлений, которые можно вменить организованным религиям. Даже в современном мире совершаются преступления во имя религиозных убеждений, такие как исламский терроризм, или под прикрытием религиозных организаций, такие как многочисленные и скандальные случаи педофилии в Католической церкви или безудержное стяжательство и сотрудничество с нечистоплотной властью в Православной церкви. Религиозные культы служат цели обогащения своих создателей путем разорения прихожан, тоталитарные секты доводят людей до массовых самоубийств во имя тщеславия их харизматических вожаков, а традиционные религиозные конфессии получают преференции от порочных и беспринципных политических режимов. Совершенно очевидно, что богословы и священники религиозных традиций на протяжении всей истории религий обеспечивали себе богатство и власть, как политическую, так и власть распоряжаться мнениями и умами прихожан. Существование в качестве священника, богослова, апологета, миссионера — это ниша, позволяющая существовать за счет общества, обменивая общественный труд на риторику и актерское ремесло. Таким образом, если религия как множество утверждений представляется атеисту бессмыслицей, религиозные убеждения отдельного верующего человека — безразличным индивидуальным увлечением, то организованная религия представляется атеисту едва ли не одним из худших социальных зол современности, сопоставимым с организованной преступностью, коррупцией или авторитаризмом. Для атеистов у организованной религии нет никаких оправдывающих качеств.
Чем же на фоне всего вышесказанного может угрожать обществу современный атеизм? Как уже было сказано, отказывающие религиозным воззрениям в смысле люди вполне могут быть способны к сочувствию или взаимопомощи. Атеисты едва ли будут аудиторией таких политических лидеров, как Адольф Гитлер, поскольку критическая рациональность плохо сочетается с категорическими оценочными суждениями, подталкивающими к крайним действиям. Атеисты не взрывают самолеты во имя Ричарда Докинза, не создают замкнутые тоталитарные общины для изучения наук и философии, не требуют к себе особого внимания именем традиционных ценностей, не убивают режиссеров за непочтение к принципам термодинамики. Достаточно просто сказать, что наиболее развитые, наиболее богатые, наиболее безопасные и наиболее цивилизованные государства на планете, такие как Швеция, Норвегия, Австралия, Канада, Япония, — это страны, где общественная роль религий со временем стремительно уменьшается, а самые религиозные государства на планете — это страны с самым низким уровнем жизни, такие как Нигерия или Сомали. Эту закономерность кажущимся образом могут нарушать такие государства, как США и Саудовская Аравия, но Саудовская Аравия — это небольшое и сравнительно молодое государство вчерашних пустынных кочевников, обладающее в силу стечения обстоятельств колоссальными природными ресурсами, на которые в современном мире огромный спрос. Что же касается США, то это государство с очень сильной социальной дифференциацией. Самые религиозные штаты США — такие как Алабама, с очень низким уровнем жизни, самым высоким уровнем преступности, употребления наркотиков и процентом афроамериканского населения. Флорида или Калифорния могут быть богатыми штатами, но при этом в них велика доля афроамериканского населения, преступности, употребления наркотиков. Самые безрелигиозные штаты США — такие как Массачусетс, с наивысшим уровнем образованности, качества жизни, наибольшим процентом белого населения и наименьшим уровнем преступности. Другим истолкованием причин сравнительно высокого уровня религиозности в США является то, что в Соединенных Штатах имеет место активная конкуренция множества маленьких церквей, в то время как в теряющей религиозность Европе Церковь зачастую — государственный монополист. Еще Адам Смит предсказывал подобную рыночную ситуацию и для религиозных течений.
Таким образом, атеизм не приносит вреда современным развитым обществам. Скорее наоборот, «распространение» атеизма (точнее, уменьшение роли религий) является одним из показателей развития общества. Похоже на то, что конец религий будет напоминать не сцены из Откровения Иоанна Богослова, с преследованиями последних верующих зловещим Антихристом, или взрывами церквей, как это было в большевистской России. Я полагаю, что конец религии не будет сопровождаться ни преследованиями, ни насилием. У образованных безрелигиозных людей есть причины видеть в организованных религиях социальное зло, а в религиозности отдельных людей заблуждение и поведенческий дефект. Однако верующих людей невозможно изменить силой, — кроме того, что это было совершенно неправильно, — а насильственная замена религии возможна не в пользу просвещения, а в пользу политической эрзац-мифологии вроде большевизма. В сущности, неверующий человек вполне может поддерживать отличные отношения с верующим, если только последний не ведет себя агрессивно и категорично. Есть расхожая христианская фраза о ненависти ко греху, но не к грешнику. Примерно таким же образом неверующий человек может относиться к верующему: отрицательной оценки заслуживает религия, но не прихожане, которые не лишены, иронически выражаясь религиозным языком, надежды услышать голос разума и прийти к Просвещению.
Подведу итог разговору о морали. Никакие оценочные суждения не следуют из фактов. Научный метод не порождает какие-то социальные требования. Нет никакого смысла в требовании создать какую-то «рациональную утопию». Поэтому наука не может быть источником общественных суждений о фактах.
Что касается религии, то цели религии не имеют никакого отношения к поддержанию ценностей общества. Религия прекрасно существует и в рабовладельческом, и в современном обществе. Цели религии являются совершенно чуждыми интересам и потребностям общества и связаны с религиозной метафизикой. Нет никаких причин, по которым общество должно воспринимать всерьез эти метафизические идеалы. Если вспомнить Платона и его рассуждения о Ночной страже, оказывается, что ничто так хорошо не оправдывает самое жестокое насилие, как отвлеченные идеалы и представления о высшем благе. История религии учит о том же самом.
6. Заключение. О ценностях
Наши ценности — не идеи, существующие независимо от нас, а лишь выражение нашей реакции на обстоятельства. Это прямое следствие наших потребностей и способ приспособления нашего вида к окружающей среде. Говорить о моральных или эстетических качествах Вселенной столь же разумно, как говорить о ее «жаберности». Религии никогда не создавали морали и не имеют отношения к ее происхождению. Потусторонняя цель религии далека от защиты нравов общества. Отвлеченные фантазии о мистическом Восхождении не имеют никакого отношения к состраданию либо жестокости.
Оценочные максимы служат лишь для того, чтобы повлиять на чужое поведение при помощи второй сигнальной системы. Влиять на честных людей нет необходимости, а на негодяев — нет смысла. Тот, кто желает помочь обществу, делает это молча, а те, кто говорит о Нравственности С Большой Буквы и прочих духовных скрепах, как правило, аморальны, бесчеловечны, циничны, алчны или просто ханжи и демагоги. Громче всего говорят о том, чтобы защитить детей от скверной информации, те, кому совершенно плевать на страдания детей, например больных сирот. За Историческую Правду чаще всего борются те, кто изолгался и считает самую беспардонную ложь своим личным достижением. Как показывает история, диктатура начинается не со злодеяний, а с демагогии о морали и требований цензуры. Короче говоря, разглагольствования о морали — пошлость, а все общие фразы мира существуют лишь потому, что есть конкретные судьбы.
Главное в оценочных суждениях то, каков их логический статус и на чем они основываются. Пока мы оцениваем свой собственный единичный опыт в своих индивидуальных целях, мы применяем нашу способность реагировать на обстоятельства по ее прямому назначению. Мы должны быть осторожными в более общих суждениях оценочного толка, если у нас вообще возникает в этом потребность. Категоричные общие оценочные требования для рационального человека бессмысленны: только ложь старается продать себя немедленно. Истина говорит тихо и никуда не спешит. Помните, что я говорил выше: если кто-
то пытается внушить вам какое-то чувство, такой человек стремится манипулировать вами. Откровенный и честный человек просто предоставит вам информацию и даст вам возможность самостоятельно принять нужные лично вам решения. Если кто-то вынуждает вас соглашаться с ним, его цель — власть над вами.
V. О новом атеизме (а также об агностицизме и игностицизме, а также о прочих хитроумных понятиях)
…а мы закроем дверь, поднимемся на самый верх нашей башни из слоновой кости, на самую последнюю ступеньку, поближе к небу. Там порой холодно, не правда ли? Но не беда! Зато звезды светят ярче, и не слышишь дураков.
Гюстав Флобер. Письма
1. О невероятном и бессмысленном
Публичное лицо современного атеизма, самый известный популяризатор науки и критик религии современного мира — эволюционный биолог Ричард Докинз. Он, а также Дэниел Деннет и Сэм Харрис — самые видные атеистические публицисты современности, к числу которых стоит отнести и ныне покойного Кристофера Хитченса.
Сочинение «Бог как иллюзия» Ричарда Докинза играет для современного атеизма такую же роль, какую для атеизма эпохи Просвещения сыграла «Система природы, или О законах мира физического и мира духовного» Поля Анри Гольбаха, о которой было сказано ранее. Это замечательная работа, излагающая принципы эволюционной биологии довольно простым языком. В своем сочинении Докинз суммирует атеистическую мысль последних столетий и приводит ряд остроумных аргументов из эволюционной биологии. Однако, как мне кажется, он избирает не вполне верную стратегию по отношению к религии.
«Я предлагаю рассматривать существование бога как научную гипотезу»167, — пишет Докинз. Такой подход позволяет ему классифицировать все разновидности веры и атеизма, включая агностицизм Томаса Генри Гекели, в зависимости от того, насколько вероятным считается существование бога. Докинз определяет семь условных типов религиозного мировоззрения, крайние из которых утверждают и отрицают существование бога со стопроцентной вероятностью, а типичный агностик в духе Гекели будто бы исчисляет вероятность существования бога как ½.
На мой взгляд, такой подход упускает из виду сразу несколько важных особенностей религиозности. Во-первых, если вы согласны со мной относительно того, что метафизические утверждения не имеют смысла, мы вообще не можем судить о том, какова вероятность истинности утверждения «бог существует»: это все равно что судить о вероятности истинности утверждения «бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые»168. Насколько вероятно то, что «бутявки некузявые»? Должен ли я принимать грамматически правильную, но бессмысленную фразу за осмысленное предложение и при этом еще пытаться исчислить вероятность? Полагаю, в данном случае Ричард Докинз использует понятие вероятности не в строго математическом смысле, а выражает количественно твердость чувств и убеждений людей. В этом случае аргумент и классификация религиозных убеждений Докинза связана не с логическими правилами обоснования утверждений, а с его психологической гипотезой человеческой религиозности. Я же предлагаю более формальный, но и более строгий подход.
На мой личный взгляд, стратегия, связанная с анализом предложений, позволяет говорить не только об отдельном предложении «бог существует», а об огромном количестве метафизических предложений, включающих предложения буддизма, марксизма и платонизма. Ведь проблема метафизики шире проблемы религии, а аргументы об обоснованности суждений кажутся мне гораздо более удачными, чем интроспективный психологизм Докинза. В англоязычной литературе такую позицию обычно называют теологическим нонкогнитивизмом, и она восходит как раз к работам таких авторов, как Альфред Айер.
Ричард Докинз выбирает для своего сочинения стратегию, цель которой — показать, что утверждение о существовании бога представляет собой ложную гипотезу. По его словам, «Вселенная, в которой есть создатель, очень сильно отличается от вселенной, в которой нет создателя… Наличие или отсутствие мыслящего сверхъестественного творца однозначно является научным вопросом, даже если практически на него нет — или пока еще нет — ответа»169. Научному рассмотрению могут быть подвергнуты исторические данные и сообщения о чудесах. На самом деле с историческими данными все немного сложнее, поскольку по понятным причинам мы не можем поставить эксперимент с Гаем Юлием Цезарем и рекой Рубикон. Единственными фактами в распоряжении историков являются лишь материальная культура и рукописные источники, а все остальное в исторической науке является теоретической реконструкцией. Но вот сообщения о чудесах170 в принципе могут быть проверены, поскольку речь идет об утверждениях о фактах.
Чудеса — это самая эффектная, но и самая слабая составляющая любого мифа, так как претензии на способность творить чудеса легко проверить (и история фонда иллюзиониста Джеймса Рэнди свидетельствует, что ни одна претензия на способность творить чудеса не была подтверждена ). Но что еще более важно, даже упоминание чуда безошибочно идентифицирует сообщение как миф. Ведь чудо — это сюжетный троп, нечто экстраординарное, привлекающее внимание и пугающее не меньше жертвоприношения. Чудо по определению не должно быть повторяющейся закономерностью, оно должно очевидным образом нарушать повторяющиеся закономерности. При всей своей непредсказуемости чудо всегда узнаваемо именно как чудо, просто потому что каждый из нас с детства знаком с жанром чудесных рассказов, от русских народных сказок и романов Толкиена до Евангелий. Не будь чудо узнаваемым, оно бы не смогло играть свою сюжетную роль: аудитория могла бы случайно проигнорировать чудо. Происходи чудо по объективным причинам на регулярной основе, это было бы уже не чудо. Пугающая непредсказуемость — одно из условий чудесного характера сюжетного поворота.
Короче говоря, в религиозном мифе чудо так же непредсказуемо, но узнаваемо , как кульминация шутки в анекдоте или внезапно появляющееся в кадре чудовище в фильме ужасов (впрочем, плохой анекдот, дешевый фильм и вторичный миф не могут похвастать и непредсказуемостью).
Настоящие удивительные открытия, такие как рентгеновское излучение, были необычны . О подобных, ранее неизвестных феноменах до их открытия никто никогда не говорил. Научное открытие всегда удивительно, но его редко можно подверстать к какому-нибудь незамысловатому мифу: что может означать для жизни арабских кочевников квантовая запутанность частиц? История экспериментальных открытий доказывает, что у науки нет проблем с тем, чтобы признавать нечто совершенно новое и ранее неизвестное. Главное, чтобы новый феномен был реален, подтверждался в независимых экспериментах, не был бы погрешностью в измерениях, как недавнее «открытие» сверхсветовых нейтрино в ЦЕРНе.
Но далеко не все предложения, составляющие содержание религий, могут быть проверены. Далеко не всё, что представляет собой религия, является ложью. Я вовсе не хочу сказать, что раз метафизические вопросы не относятся к предмету науки, то ответы на такие вопросы следует ожидать от религии. Я уже говорил, что нельзя дать осмысленный ответ на бессмысленный вопрос. Иногда говорят, что наука отвечает на вопрос как , но только теология может ответить на вопрос почему . Но подобный вопрос почему не имеет отношения к вопросу о конкретных причинах и следствиях в естествознании, а вместо этого вопрошает об аристотелевском понятии цели . Я недаром так много внимания уделил классической метафизике: все аргументы современных сторонников религии перед лицом науки берут свое начало из Античности. Утверждение о том, что наука не должна высказываться по поводу претензий религии на основные вопросы бытия, разумеется, несостоятельно, но не потому, что такие вопросы — предмет науки. Все проще: такие «основные вопросы бытия» — вовсе даже не вопросы, а лишь лингвистические спекуляции.
Все, что я хочу сказать, заключается лишь в том, что метафизика не имеет смысла. Я не имею в виду неприкосновенность сфер религии и науки подобно агностику Стивену Джею Гулду с его аргументом «non-overlapping magisteria» («непересекающихся сфер»): с точки зрения аналитической философии у религии нет никакой особенной «магистерии» вообще . Содержание религиозных сюжетов — это не особая форма знания, которая требует особого метода. Предложения, сформулированные таким образом, что их нельзя проверить, лишены смысла и не заслуживают рассмотрения как аргументы.
Существо аргументации Ричарда Докинза заключается в том, что он формулирует предложения об авраамическом божестве таким образом, чтобы можно было проверить эти предложения — и найти их ложными. Для этого Докинз делает предположение о том, какие проверяемые следствия могут быть у утверждения о существовании бога. Например, поскольку бог представляет собой форму разума, разум, по логике Докинза, не может возникнуть иначе, чем путем эволюции, то есть постепенного накопления признаков. Это совершенно рациональная позиция, которая имеет лишь один простой полемический изъян. Верующие полемисты-противники Докинза в ответ на подобный аргумент могут, как это сделал Алистер Макграт в книге «Заблуждение Докинза», заявить, что бог не нуждается в возникновении как таковом и не имеет начала. Это вполне предсказуемый теологический шаг, напоминающий логику платоновского диалога «Парменид». Бог в данном случае — совершенно случайная абстракция, которая будет обладать ровно теми качествами, какими ее пожелают наделить апологеты религии. Если апологетам-полемистам будет удобно, они заявят, что между богом и тем, что мы понимаем под разумом, есть некая необъяснимая разница, и поэтому все наши прежние аргументы не имеют значения. Все это кажется не слишком честным в интеллектуальном отношении, но таковы особенности богословской полемики.
Когда мы говорим о том, что организм, обладающий интеллектуальными способностями, может возникнуть только в результате эволюционного процесса, мы имеем в виду лишь наше конкретное, эмпирическое понимание разума. Мы имеем в виду человеческий мозг и его конкретные способности вроде запоминания. Эти конкретные способности, которые мы называем «интеллектом», не имеют ничего общего с платоновской метафизической рациональностью. Мы можем на основании опытных данных продемонстрировать, что эмпирический разум (разум человека) содержит рудименты, изъяны, чрезмерно сложен и приспособлен к исключительно частным, человеческим задачам. Но отождествить эмпирический разум и божественный интеллект мы можем исключительно прибавлением божественного интеллекта в наши выводы об известном нам эмпирическом разуме (как Фома Аквинский прибавлял христианское божество в аристотелевские выводы о первоначале). Аргументы Ричарда Докинза, относимые к человеческому интеллекту и его происхождению, безупречны, но он переносит свои аргументы на божественный разум по собственному логическому произволу. Его теологические оппоненты легко могут заявить, что божественный разум по своим качествам отличается от данного нам в опыте разума, и аргументы о естественном происхождении к нему неприменимы.
Я не хочу сказать, что такой «божественный разум» воображается верующими людьми не по примеру единственного известного им человеческого интеллекта (на самом деле верующие люди зачастую непроизвольно приписывают богу совершенно человеческие качества, вроде неспособности уделять внимание нескольким задачам одновременно). Я лишь хочу сказать, что «божественный разум» — настолько пустое и случайное понятие, что теолог может переформулировать качества такого разума сколько угодно. Короче говоря, мы можем изучить человеческий мозг и знать о нем все, но основные предметы религиозных сюжетов никогда не станут предметом научного изучения. Предметом научного изучения могут стать лишь те эмпирические вещи, которые верующие имеют в виду, когда говорят о метафизических понятиях (если что-то вообще имеется в виду). Для того чтобы понять, что верующие имеют в виду, надо «перевести» их предложения на предметный язык, как это предлагал Айер: определить, в каких условиях говорятся такие предложения. И тогда мы обнаружим, что риторика о духовности употребляется в тех условиях, в которых мы бы говорили о памяти и об эмоциональных состояниях. Предложения о боге употребляются авторами-богословами, когда те по-платоновски обобщают какие-то качества. Но сказать что-либо осмысленное о самой душе или о боге нельзя: душа или бог — это все та же «бутявка» из лингвистического примера Петрушевской. Бессмысленные общие слова, не означающие никакого предмета или существа.
Именно в силу всего вышесказанного я считаю, что Докинз избирает неверную стратегию анализа религии, когда говорит о вероятности существования бога или доказывает, что бог, как мы его представляем, мог появиться только в результате эволюции. Я считаю, что следует анализировать содержание религии как лингвистическую конструкцию. Все остальное — просто путаница, порожденная злоупотреблением языком и логикой.
2. Важна не идея бога, а ее происхождение
Слово «атеизм» этимологически связано с понятием θεός, «Бог». «Атеист» — это безбожник. Но критика метафизики и применение научного метода влекут более существенные (и более полезные) изменения, чем просто исчезновение «бога» из нашей речи. Я совершенно не согласен с тем, что Докинз избирает своей целью понятие «бога», ведь с моей точки зрения в религиях более важно не убеждение о боге, а убеждение о метафизической природе человека. Христиане часто говорят, что бог — это высшая идея, центр человеческого воображения и так далее, но на самом деле бог — это частность. Она даже по меркам трудов Аристотеля и Платона не является важной, центральной или существенной деталью их конструкций. А уж в масштабе метафизики и мифов народов мира это просто региональная достопримечательность. Самым важным в каждой религии в мире является даже не гипостазирование ценностей (утверждение о ценностях как о метафизических сущностях, определяющих существование мира), а персонализм, представление о том, что человеческая индивидуальность есть нечто особенное и не подверженное влиянию материи, свободное в своем воображении и в своей воле.
Почему подобная мысль несостоятельна, я объяснял, когда говорил про физикализм: человеческая идентичность, на мой взгляд, определяется содержанием памяти. Мы — это наш опыт и наши воспоминания. Обучение, воспитание и принятие решений возможны лишь постольку, поскольку мы способны запоминать информацию. Сама религиозность как таковая возможна лишь постольку, поскольку мы можем запоминать!
В мире, где при помощи фармацевтики или нейрохирургии возможны операции с воспоминаниями, нет постоянной личности, которой можно вменять обязанности и вину. На самом деле, эта проблема личности и памяти гораздо больше, чем проблема души и религии. Нейробиологический мир может стать антиутопией более зловещей, чем «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла, но эта проблема наряду с проблемами генетической евгеники и сегрегации, а также проблемами искусственного интеллекта выходят за рамки разговора о религии. К слову, как религия может быть центром и целью человеческой культуры и воображения, если разговор о ней настолько ограничен и не включает огромное множество предельно важных вещей?
Стратегия разновидности атеизма (или самостоятельной философии?), которую иногда называют теологическим нонкогнитивизмом (или игностицизмом ) и которой мы обязаны уже упомянутому Альфреду Айеру и Теодору Дранжу, позволяет нам, с одной стороны, выдвинуть сильные логические претензии к религии, а с другой стороны, позволяет легко обойти любые претензии со стороны авторов вроде Алистера Макграта.
К примеру, вот что Айер пишет по этому поводу: «Не столь общепризнано, что способ доказательства существования бога, такого бога, как в христианстве, не является даже вероятным. Однако и это легко показать. Если существование такого бога было бы вероятным, то пропозиция, что он существует, являлась бы эмпирической гипотезой. А в этом случае из нее и других эмпирических гипотез можно было бы вывести опытные пропозиции, которые не выводимы из одних этих гипотез. Но фактически это невозможно. Иногда утверждается, что существование в природе регулярности определенного типа предоставляет достаточное свидетельство в пользу существования бога. Но если предложение „бог существует“ влечет за собой лишь то, что некоторые типы феноменов встречаются в определенной последовательности, то утверждение о существовании бога будет просто эквивалентно утверждению, что в природе существует требуемая регулярность»171.
И на основании критериев Айера и Поппера можно однозначно заключить, что теологические предложения — это метафизические утверждения, которые, как я уже неоднократно повторял, не имеют смысла: метафизика не является ни ложью, ни истиной. Но есть и другие метафизические утверждения, кроме теологических!
Историческая проблема метафизики и эмпиризма, которой я уделил столько внимания в начале этого разговора, является самым надежным основанием для любого разговора о религии и атеизме. Предусмотрительный религиозный апологет вполне может высказать метафизические утверждения о причине эволюционного процесса: заявить, что эволюция как таковая не является первопричиной, поскольку всем источником движения, в том числе первопричиной химических превращений, является христианский бог. Или на выбор: аристотелевская энтелехия, мусульманский Аллах, законы Дхармы, фатум, витальность, ницшеанская воля к власти и так далее, и тому подобное. Но если мы понимаем, в чем изъян аристотелевской метафизки, мы сможем строго логически отказать в рассмотрении всем подобным метафизическим доводам как классу.
К примеру, антропный принцип , смысл которого заключается в том, что человеческая природа является причиной устройства Вселенной: если бы природа была устроена иначе, мы бы не существовали. Анализ метафизики Аристотеля и здесь позволяет нам препарировать и отвергнуть подобный аргумент. Бессмысленно и безосновательно говорить о том, что человек и человеческий разум являются целью существования Вселенной в ее современном виде по той же простой причине, по которой бессмысленно говорить, что целью существования мячика является футбол. У предметов, событий и процессов нет метафизической цели, то есть слово «цель» может быть правильным образом употреблено только для описания поведения человека или животных или работы достаточно сложной программы. Целью изготовления мячика, то есть целью поведения рабочего, было создание предмета для другого поведения, игры в футбол. Спекуляция о том, что причиной каждой вещи является ее цель, форма, субстрат и источник движения есть лишь архаичное по нашим меркам словоупотребление, чуждое нашему языку и логике. Если же говорить о причинности в современном нам смысле, которым мы обязаны Дэвиду Юму, оказывается, что константы Вселенной являются причинами существования человеческого разума лишь в том смысле, что одно следует за другим. Утверждая, что космологические параметры являются следствием существования человеческой природы, мы лишь меняем в нашем воображении причину и следствие местами. Подобная инверсия ничего не значит и ничего не доказывает. С таким же успехом можно было бы удивляться мысли о том, что бомба всегда попадает в эпицентр взрыва .
Есть и другие, более частные доводы против антропного принципа: к примеру, этот принцип базируется на мысли о том, что существование человеческого разума имеет ценность само по себе (причем достаточную для создания чудовищного в сравнении с площадью поверхности Земли количества свободного места за пределами Земли!). Но ценность в отличие от протяженности — это не дескриптивная характеристика предмета. Когда мы говорим, что существование человечества является ценностью, мы лишь сообщаем, что испытываем сильные положительные эмоции по отношению к мысли о нашем будущем и наших детях. Мысль же о том, что на самом деле мир не слишком хорош для целей существования человеческого вида, поскольку нам приходится с большим трудом приспосабливаться к его условиям на протяжении всей нашей истории, — просто небольшое логическое дополнение к основной аргументации.
По правде говоря, будь я религиозным миссионером или гуру, я бы не смог найти средство против такого анализа метафизики. Кроме того, я никогда не сталкивался с возражениями против подобной позиции. Если вы понимаете, что такое метафизика, как складывалась история философии и науки, то вы вряд ли станете спорить о частностях, вроде проблемы существования или несуществования какого-то персонажа. Отсюда, с вершины «башни из слоновой кости» мировой философии, проблемы религии или политики едва заметны.
Но наш анализ не сводится только к критике. Наши знания об истории философии и культуры, об устройстве литературных сюжетов и о научном методе, о природе человеческого поведения и языка, о логике и о логических уловках, о данных естественных наук, как мне кажется, в совокупности порождают гораздо более сложную картину окружающего мира и человеческой природы, чем любой религиозный миф. Эта картина несравненно более сложна, интересна и важна, чем абстрактные игры воображения Платона или мнительные, завистливые споры богословов. Вначале, если помните, я говорил, что содержание религий, в том числе христианского богословия, мне хорошо знакомо, но неинтересно. Я хорошо помню курс по патристике, лекции о лже-Дионисии Ареопагите, о Григории Паламе и восточном мистическом богословии. Уже на этапе знакомства с тем, что отечественные богословы называют вершинами христианской мысли , мне была очевидна ее вторичность, тавтологичность и бессмыслица. Чем, к примеру, является христианство в своей сущности, если не power fantasy, простой фантазией о могуществе, реакцией на жизнь ?
По правде говоря, большей проблемой в этом разговоре для меня является дифференциация понятий атеизма, агностицизма и других вариантов наименования отрицательных отношений к проблемам религий. Критерий, предлагаемый Докинзом и связанный с исчислением вероятности, не подходит, поскольку не учитывает нонкогнитивистскую позицию. Агностицизм представляется интеллектуально неполноценным: хотя об истинности или ложности метафизических высказываний судить действительно нельзя, можно иметь вполне определенное положительное знание о логической природе таких высказываний. Утверждение о том, что предложения богословия не имеют смысла или вторичны платонизму, даже сильнее логически, чем утверждение о том, что «бога не существует». Если представить себе атеизм как простое утверждение о том, что бога не существует, то подобное высказывание само по себе будет метафизическим. Экстраполяция теологических догм в область проверяемых высказываний является гиблым делом именно потому, что сперва придется сконструировать свою версию таких догм, которая наверняка не подойдет полемистам-апологетам (им, строго говоря, вообще ничто не подойдет, кроме капитуляции оппонентов).
3. Насколько нам подходит слово «атеист»?
Многие готовы спорить из-за самого слова «атеист». Я вообще не уверен в целесообразности использования такого слова, как атеизм. Мы не используем специальные слова для обозначения нормы, в частности мы не используем специальные понятия для обозначения здоровых людей в противовес больным людям, и это хорошо известный многим атеистам аргумент. Атеизм никак не характеризует характер, опыт, навыки и знания человека, его социальный статус и роль в обществе. В большинстве случаев человеку, не воспринимающему содержание религий буквально, нет смысла идентифицировать себя как атеиста, агностика, неверующего или безрелигиозного человека. Мы вынуждены искать какие-то обозначения лишь постольку, поскольку существуют религии, одной из особенностью которых является жесткое разделение людей на «своих и чужих». В мире, в котором не было религий, не было бы и слова «атеист». Но религии — это не единственный источник бедствий в мире и не единственный пример категоричной метафизики.
Казалось бы, слово «атеист» вполне удобно. Это слово имеет устоявшееся значение и не делает наши высказывания слишком сложными, в отличие от развернутого определения всего множества людей, не являющихся по тем или иным причинам верующими. Но не кажется ли вам, что в предложении «атеисты» начинает звучать как ярлык? Некоторые говорят, что неверующих можно назвать Brights, как это предложили Пол Геисерт и Минга Фатрелл, но я не хотел бы вести споры из-за наименований и политических ярлыков. Неверующие люди не должны быть меньшинством или маргиналами. Лично я предпочел бы, чтобы обусловленный пониманием принцип научного метода и философии атеизм был бы культурной нормой всего человечества, как в фантастических фильмах середины XX века, а религиозность была бы индивидуальной культурной особенностью отдельных людей, вроде бережного сохранения этнических особенностей.
Но это все лишь политика и публичные отношения. Нам же достаточно сказать, что исторически сложился развернутый и строгий логический подход к проблеме. Этот подход касается проблем познания, метода, достоверности, смысла и значения, злоупотреблений языком. Подобный философский подход вполне решает все проблемы, о которых могли бы спорить люди, называющие себя атеистами, агностиками и прочими игностиками.
Лично я считаю, что неправильно ставить вопрос о том, насколько человек убежден в (не) существовании бога. Вместо этого следует определить, что именно служит причиной человеческих суждений на религиозные темы. В числе таких причин могут быть знания о природе религии и мифологии, знания о соотношении проверяемых и метафизических утверждений, богословские и библиоведческие знания, личные эмоциональные привязанности, в том числе конформизм и страх, какие-либо другие индивидуальные причины, вроде подросткового протеста и метафизической интоксикации. Если мы ответим на вопрос о причинах отношения человека к религии, мы поймем, оценивает ли он религию как нечто важное или нет. К примеру, единственными причинами, которые определяют мое отношение к религии, являются мои знания и мой опыт. Я не думаю о религии в категориях истинности или ложности, но зато хорошо представляю себе, как религия сложилась, в чем ее преемственность философии и какую роль она может играть в жизни людей. Этого для меня вполне достаточно. При этом я вполне могу назвать себя атеистом (а могу и не называть, как это периодически делает Сэм Харрис), поскольку отношусь к употреблению этого понятия довольно легкомысленно. Это вопрос моей рациональной экономии сил: слово «атеист» является более распространенным и понятным, чем слово «игностик» и тем более чем словосочетание «теологический нонкогнитивист» (объяснение принципов аналитической философии людям, которые не всегда понимают, почему буквальное прочтение Писания не является аргументом, может быть настоящим мучением).
Мысль, что атеизм или агностицизм представляют собой особенные, важные варианты решения задачи об отношении к религии, сама по себе… какая-то религиозная. Одни, дескать, отвергают магию в своей жизни, другие откладывают это жизненно важное решение до лучших времен. Но на самом деле между первыми и последними нет никакой существенной разницы, ведь, выбирая «отношение к вере», человек не совершает никакого выбора вообще .
4. Заключение. О критике и методе
Нельзя согласиться с постановкой вопроса о вероятности истинности той или иной метафизической идеи. Это неправильно. Вместо этого мы должны говорить о смысле и происхождении тех или иных идей. При этом бессмысленность вопроса о существовании бога не является проявлением неспособности ответить на такой вопрос. Человек, называющий себя агностик, может дать точный и определенный ответ на вопрос о логическом качестве предложений теологии. Но вопрос «о существовании бога»… по правде говоря, вообще не особенно важный! История коллективного воображения человеческого вида знает примеры огромного множества разных метафизических утверждений, и утверждения об авраамических божествах — лишь один из примеров, частность. Метафизические постулаты большевизма или национал-социализма принесли миру не меньше страданий и внесли не меньше путаницы, чем богословские догмы. Есть знаменитая поговорка о том, что можно дать человеку рыбу или удочку. Поговорку можно перефразировать: можно дать человеку критику мыслей о божестве, а можно дать человеку познавательный метод.
Если мы хотели бы, чтобы в мире восторжествовали идеалы Просвещения, чтобы со временем «наполовину бесы, наполовину дети» стран Третьего мира смогли стать цивилизованными людьми, если мы хотим, чтобы радикальные «левые» и «правые» идеологии были разоблачены и отвергнуты, мы должны заботиться об одной, но главной проблеме — сохранить завоевания научного метода как главное достижение цивилизации. И вопросы «существования бога», будущего религии и роли атеистов в обществе — лишь частности.
VI. Жизнь без бога
The Sun was born, so it shall die
So only shadows comfort me.
VNV Nation. «Further»
1. Учит ли нас чему-нибудь история философии?
Разговор о логике научного исследования или о религиозном догматизме не представляет особой сложности. Есть очевидная проблема метафизики, которая всегда казалась мне ядром любого разговора о религии, и есть подсказанное историей философии решение этой проблемы. Все довольно просто, верно? Но в ходе размышления над проектом книги и обсуждения его с издателями я пришел к выводу о том, что необходимо посвятить часть книги тому, чем, собственно, является «жизнь без бога». Или, точнее, жизнь без общих и категоричных метафизических убеждений.
Сперва мне казалось, что из ответов на вопросы логики и эпистемологии нельзя получить никаких оценочных выводов о человеческой жизни и обладающие одинаковым знанием люди могут жить по-разному. Обычно считается, что религия связана с какими-то особыми ценностными убеждениями, но на самом деле ценности обычного человека не имеют никакого отношения к религии. Обыватели, называющие себя христианами, но слабо понимающие, что это означает, будут жить совершенно обычной жизнью с религией или без нее. Они будут работать, растить детей и соблюдать законы. Мода на православное христианство сразу же после политических изменений сменится на что-то эзотерическое и ориентальное, как это было в последнем десятилетии XX века, после падения СССР.
В подавляющем большинстве случаев религия или ее отсутствие никак не сказываются на образе жизни человека. Даже люди, которые приезжают в Вифлеем и Иерусалим, чтобы посетить достопримечательности христианской традиции, будут без рассуждений соблюдать советы гида, покупать современные иконы и украшения в магазинчике от московской патриархии и послушно соблюдать ритуалы, о которых они услышали пять минут назад. Жителям провинциальных городов незамысловатая религиозность, которая в их воображении не отделяется от национальной принадлежности, не помешает злоупотреблять алкоголем и вести себя подобно варварам эпохи заката Рима.
От людей, которые не имеют дела с религией, также не стоит ожидать какого-то экзальтированного поведения, ведь о том, что религия вообще не имеет никакого отношения к обычной морали общества, говорил еще Гольбах. Неверующие люди не будут вести себя как злые гении или эрзац-ницшеанцы (Фридрих Ницше ни при чем). По правде сказать, я не смогу с ходу разделить моих знакомых на верующих и неверующих, потому что подобная особенность отвлеченных убеждений никак не сказывается на их характерах. Характер — не такая штука, чтобы выработать его отвлеченными фантазиями.
Что касается самоидентификации, современная политическая ситуация и активность средств массовой информации делают свое дело, и многие назовут себя православными, причем даже не обязательно христианами (по приезде в Иерусалим эти люди, к своему стыду, обнаружат, что не читали Евангелия). Верующие и неверующие люди могут различаться в том, какие отвлеченные оценочные убеждения они могут высказать в ответ на общие и многозначительные вопросы, но на подобном интервью их религиозность, скорее всего, и закончится. Есть такие, кто испытывает ностальгию по СССР или желает выкинуть из страны всех иммигрантов: дальше пустых разговоров их «политические убеждения» не пойдут.
Единственная важная особенность поведения «метафизических людей » заключается в суеверии, мнительности и доверчивости. Это означает, что верующие в широком смысле люди могут чаще становиться жертвами мошенничества, в том числе шарлатанства, и, кроме того, легко примут близко к сердцу любую государственную пропаганду или маргинальную идеологию. Те же, кто действительно способен к критическому мышлению и образован, реже будут высказываться категорично. Критическая рациональность и уровень образования все же меняют наше мировосприятие.
Означает ли это, что образованных верующих людей не существует? Конечно, нет! Но многие неофиты из числа молодежи и представители духовенства, которые считают себя знатоками богословия, не столько образованны, сколько эрудированны (как игроки в викторины в сравнении с учеными). На серьезные логические вопросы ответить они не смогут. Молодые неофиты (например, еще вчера употреблявшие галлюциногены в поисках восточной эзотерики — есть и такие) считают себя выдающимися только потому, что смогли прочитать одну-две статьи на ту тему, о которой они раньше не знали вообще. Исихазм? Подумать только! Старшее поколение попросту видит в МП РПЦ новую КПСС и следует, куда ветер дует.
В конечном итоге я видел не так много людей, которые одновременно были сознательно религиозны, знали свою традицию и при этом не вели себя агрессивно, будто напрашиваясь на скандал или драку (чаще — на скандал). С такими людьми можно совершенно спокойно общаться, в том числе и о богословии. Это доказательство, что атеист не испытывает иррациональной ненависти ни к верующим, ни к содержанию веры. Это может показаться странным, но я долгое время не понимал этого. Большую часть своей жизни я не замечал религии и имел о ней довольно поверхностное представление. Религия казалась мне чем-то, что обычно интересно пожилым женщинам. Девяностые годы XX века были временем суеверий и эзотерики, которые могли увлечь разве что подростков и домохозяек. Сперва возрождение православия казалось увлечением отдельных людей, которым приятна атмосфера храмов (запах ладана и воска), но затем появился спрос на русскую религиозную философию. Интеллектуальная мода среди людей, считавших себя интеллигенцией. Некоторые из этих людей были радикалами, но только на словах или в пределах их ограниченных возможностей. Наконец, среди обывателей как будто распространилась городская легенда. Люди стали соблюдать посты и отмечать религиозные праздники, хотя имели о них слабое представление. Начиналась эпоха духовного возрождения России: сотрудники бывшего КГБ в числе духовенства (как говорят) никуда не делись и быстро смекнули, что смогут быть полезны власти. Наиболее ушлые предприниматели, полагаю, видели в религиях бизнес. Чиновники мгновенно вспомнили свой партийный и комсомольский опыт. Русское православие в той форме, какое мы имеем сейчас, устроено как советская идеология с очаровательной примесью коммерции. Правление Путина позволило духовенству проявить свои лучшие душевные качества вроде смирения, всепрощения и нестяжательства, в результате чего патриарх выглядит едва ли не как олигарх, а публичные лица РПЦ ведут себя почти как знаменитые черносотенцы начала XX века (к счастью, по большей части на словах).
У христианства в постсоветской России был репутационный капитал, которого хватило бы на реформацию, но он был небрежно растрачен.
Выходит, большая часть из верующих людей, с которыми я сталкивался за свою жизнь, производила не лучшее впечатление. Поведение таких людей по понятным причинам выглядело фальшивым. Они казались злыми. Поэтому для меня было весьма неожиданно обнаружить, что бывают люди, имеющие сознательные религиозные убеждения и при этом способные сохранять собственное достоинство и не вызывать чувства отторжения. Я должен сказать, что не имею ничего против подобных верующих людей, хотя и не понимаю, что определяет их интересы. Могу предположить, что религиозные представления имеют для них индивидуальное эмоциональное значение, например связаны с ностальгией, но это всего лишь догадки. Для меня важно лишь то, что такие люди как бы облагораживают свою религию, и мне совершенно не о чем спорить с ними. У меня нет никакого желания вступать с ними в полемику ради риторической победы, и мне не хочется обидеть их чувства. На самом деле, безо всякой фальшивой политической корректности . Вот вам тайна человеческого уважения: нельзя заставить уважать себя. В большинстве случаев я не хочу быть терпимым к чужой глупости, даже если такая глупость с чьими-либо метафизическими убеждениями. Нет, не так. В особенности , если такая глупость связана с чьими-то метафизическими убеждениями. Но если человек умен и порядочен, в чем проблема? Мы не можем повлиять на те психологические причины, о которых я говорил. Зачем пытаться? Это все равно что вмешиваться в чужие художественные вкусы.
Однажды мне был задан вопрос: могут ли верующие и неверующие люди сотрудничать? Конечно, хочется ответить мне. Но только вот в чем? Единственное, что мне приходит в голову, — сотрудничество в исторических исследованиях. Любое другое сотрудничество или взаимоотношения не связаны с верой или ее отсутствием, по определению. Конечно, я бы предпочел, чтобы в мире было меньше конфликтов, и конфликты из-за совершенно отвлеченных убеждений — последнее дело. Но нельзя просто взять и изменить человеческую природу.
Итак, что же такое жизнь без бога? Или, может быть, без кармы? Как правило, это просто жизнь без каких-то особых эзотерических увлечений и категоричных оценочных суждений. Эзотерические увлечения, категоричные оценочные суждения и простая метафизическая интоксикация (как это называл Юм) могут быть разрушительны для человека по самым простым причинам. И наоборот, мы можем ожидать от того, кто не соглашается бездумно с общественными мифами, не категоричен и не суеверен, определенной самостоятельности и здравого смысла. Зрелости ума и характера.
Религия в наиболее широком смысле напоминает мне подростковые увлечения. В песне «Все сначала» группы «Воскресение» есть строки:
И мне казалось, что без моих идей
Мир не сможет прожить и дня.
Оказалось, в мире полно людей,
И все умней меня.
Поэтому критическое отношение к метафизике и громким обобщениям кажется мне проявлением человеческой зрелости. Однажды мы осознаем, что не мы первые приходим к тем умозаключениям, которые порой поражают воображение. Общие и категоричные предложения о политике, истории и человеческой природе могут быть эмоционально нагруженными по той же причине, по какой эмоционально нагруженными были обобщения в Диалогах Платона, но в них не больше смысла. Жизнь устроена таким образом, что иногда сложность представляют самые простые вещи, повседневный быт, здоровье, взаимоотношения с ближайшим окружением, одиночество. Что в сравнении с этими вещами значит вся циклопическая метафизика и прочие праздные игры нашего воображения? Масштабы коллективного воображения человечества порождают в умах людей мегаломанию, но какой толк от богатого воображения тем, кто не может навести порядок в своих маленьких жизнях?
Думаю, что детям и подросткам свойственно говорить самые общие фразы о жизни и смерти потому, что у них есть амбиции, но нет ни опыта, ни достижений. Что еще им остается? Мечты, игра воображения и обобщения без практических навыков бесполезны. В конце концов, наша судьба состоит только из конкретных ситуаций, и все заученное нами с детства, включая сюжеты о юношеской инициации в мужчины посредством сложного испытания, о счастливой свадьбе прекрасной девушки и смелого принца, о мудрости стариков и тому подобном, — лишь вымысел, подобный легендам о предках. Человеческая судьба складывается по собственным законам, далеким от законов литературы или повседневных поведенческих мифов. Это простейшая и очевиднейшая мысль почему-то постоянно ускользает от многих и многих, кто непроизвольным образом организует свой опыт в соответствии с поведенческими мифами, а затем винит в своих бедах окружающих.
Перечитывая эти строки, я вдруг понимаю, что критическая позиция по вопросам религии и метафизики связана все-таки с определенными суждениями о жизни. Если мы объединяем в своем уме совокупность разнородных знаний от естественных наук до истории литературы, нам открывается определенная перспектива, представление о человеческой жизни и судьбе. Подлинная способность к критическому мышлению вырабатывает проницательность. Аналогия: когнитивные ценности научного познания, вроде открытости критике или интеллектуальной честности, не служат обоснованию теоретических суждений, но являются необходимыми для обеспечения научной деятельности как успешной практики. Думаю, есть общие практические принципы, которые сопутствовали научному прогрессу. Мы можем быть более открытыми и более снисходительными. Мы можем быть мудрее, ведь к нашему распоряжению информация обо всей истории человечества. Мы знаем, что самые громкие и общие откровения приносили мало пользы, но много бедствий. Вещи, которые изменяли человеческую жизнь к лучшему, вроде антибиотиков или книгопечатания, приходили без лишнего пафоса.
Пожалуй, главное, чему может научить нас история философии: нет такой максимы или обобщения, которые нельзя было бы подвергнуть критике. Нужно уметь сомневаться и проверять утверждения. Нужно извлекать пользу из опыта. Нужно уметь остановиться и оценить свои убеждения и цели. Мы должны уметь различать реальность и миф.
2. Несколько афоризмов
На этом этапе нашего разговора я бы хотел выразить свои мысли, выходящие за рамки вопросов логики и метода и содержащие ценностные суждения. При этом мне не хотелось бы сказать что-нибудь банальное. Высокомерное нравоучение — это пошлость. Виденье, о котором я говорю, — это скорее критическое представление о судьбе и истории человеческого вида, подобное хорошей внежанровой литературе.
Как лучше поделиться опытом, но при этом не увлечься прямыми авторскими высказываниями? Это главный вопрос литературы. Думаю, для подобной цели больше бы подошла манера афоризмов Фрэнсиса Бэкона, размышлений Марка Аврелия, стиля Фридриха Ницше или коротких мыслей о логике Людвига Витгенштейна. Это довольно необычный шаг для тех, кто привык к формальному стилю, убивающему письменную речь и нагромождающему многослойные обороты «канцелярского языка». Но попробовать выразить что-то, что мы еще не схватили до конца в привычной манере, наверное, стоит.
1. Все общие фразы мира существуют лишь постольку, поскольку есть конкретные судьбы, а вовсе не наоборот.
2. Часто говорят, что нужно непременно отвечать на вопрос о том, почему наша жизнь и наши решения именно таковы. Этот вопрос будто бы важен для всех и каждого, и только религия может ответить на него. Но чем громче задают вопрос, тем меньше он заслуживает ответа. По-настоящему важные вопросы не требуют того, чтобы задавать их вслух.
3. Забавляет терминология верующих людей. Говорят, что кто-то приходит к богу, кто-то уходит от бога, как будто все эти люди только и делают, что ходят вокруг бога. Можно подумать, что религия — это повод для прогулок. Если же быть серьезным: кто думает, что совершает ответственный духовный выбор, на самом деле не совершает никакого выбора вообще. Молиться под действием стресса — не означает помириться со строгой, но милостивой отеческой фигурой. Прекратить исповедовать религию — не означает расторгнуть контракт с нечестным работодателем. Прийти к вере — не означает решить все свои проблемы. Религиозные решения не меняют в человеке ничего, кроме настроения.
4. Говорят, что религиозное представление о мире богаче, интереснее и красивее. Неверующий человек будто бы мрачный упрямец, твердящий о логике и науке при любом удобном случае. Но самое существо религии ограничивает богатство действительности тенетами незамысловатой метафизики и банальных идей.
5. В сердце любой религии — мысль о восхождении к сверхчеловеческому состоянию, будь то спасение или нирвана, и трудно представить себе фантазию о могуществе более гордую и одиозную. Но фантазии о могуществе — как детские обиды, открывают об уязвленных чувствах человека больше, чем он того желает.
6. За платоновскими словами о высшем благе скрываются индивидуальные интересы и потребности. Требовать от других принятия вашего понимания блага — означает лишь подчинять их своим интересам. Инквизиция и большевизм уже приносили людям благо против воли.
7. Религии противопоставляют воображение и тело. Воображение свободно и возвышенно, а тело в плену желаний и потребностей. Говорят даже, что тело — это узник души. Но представьте, что это экзальтированное воображение, подобно безумию, порабощает и убивает тело.
8. Религии любят секс и насилие. Не важно, тантрический секс и человеческие жертвоприношения, джихад и многоженство или целибат и культ мучеников. Если хотите власти над людьми, манипулируйте их желаниями и страхами. Не позволяйте им быть смелыми и счастливыми.
9. Наши ценности и цели — лишь функция нашей жизни. Наши мысли умрут вместе с нами. Кроме игры нашего воображения, нет других причин, по которым люди должны процветать или стремиться к чему-либо. Человечество бесследно исчезнет за бесчисленные эпохи до того, как испарятся последние черные дыры и закончится само время.
10. Мысль Ницше о человеческой судьбе, которую он называл amor fati, прекрасна: оправдывая и принимая один-единственный момент нашей жизни, мы тем самым оправдываем в своих глазах всю свою судьбу целиком, какой бы она ни была.
11. Лучшую характеристику жизни дал Шекспир устами обреченного шотландского короля Макбета, назвав ее рассказанной глупцом историей, полной шума и ярости и не означающей ничего. Судьба не обязана подчиняться правилам утешающих нас сюжетов.
12. Верующих и метафизиков всегда поражала мысль о боге. Бог кажется им самой замечательной, самой важной и самой интересной идеей. Но мысль о том, что идея бога не так уж и важна, еще интереснее.
13. Борцы за правду не терпят возражений. Но истина — не такая штука, чтобы ее защищать.
14. Всегда проще бороться с воображаемым злом, чем решать настоящие проблемы. Моральная паника — это коллективный страх перед совершенно безобидными вещами, рождающийся в голове у тех, кто совершенно не понимает настоящие причины своих бедствий. Ханжество проще, чем самоотверженность. Духовность, мораль, родина и дети — излюбленные аргументы негодяев.
15. Только равные нам могут проверить и оценить наши способности. Главное достижение спортсмена — победа над самым сильным противником. Утверждения ученого должны выдержать критику ведущих специалистов по вопросу. Только трус или глупец тешит свое тщеславие, унижая слабых или бравируя знаниями перед неспециалистами. Вот почему проповедники обращаются от лица высшей истины и чистейшей морали к самой простодушной и робкой аудитории.
16. Манипулировать людьми при помощи слов просто. Правила полемики не изменились со времен софистов. Главная цель демагога: чувства аудитории. Честный и откровенный человек никогда не пойдет на эмоциональное вымогательство.
17. Цель полемики — победа любой ценой. Если понадобится, полемист будет упрямо и с невозмутимым видом называть черное белым, а белое черным. Быть апологетом религии — значит называть преступления религии благодеяниями, а бессмыслицу — высшим смыслом.
18. Мир сможет прожить еще по крайней мере несколько дней без идеи, которая кажется кому-то важнейшим откровением. Не в первый раз. Кроме того, люди прекрасно обойдутся без нравоучений, одолжений и снисходительности.
19. Что такое священное? Это предмет, который вызывает такой страх, что о нем говорят с замиранием сердца. Лучший источник священных чувств — человеческие страдания и смерть. Поэтому религии и идеологии любят мучеников и героев. Но если взглянуть на предмет священных чувств пристально, обнаружится, что король — голый, повод переживаний ничтожен, а сакральный фетиш — бесполезный мусор. Кровь проливается ради пыли. Священное затуманивает взгляд и запутывает чувства. В сущности, это только жестокая иллюзия.
20. Закон человеческой природы: демонстративное поведение скрывает ложь и слабость. Кто много говорит о силе и мужественности, коллекционирует оружие и твердит, что ждет беды, тот слаб и труслив. Кто кичится умом и жалеет невежд, тот недалек. Кто демонстративно учит других трудолюбию, тот зачастую совершенно безответственен.
Не бывает более отвратительных и извращенных людей, чем те, кто постоянно твердят о морали, нравственности и духовности.
21. Об отношениях с верующими людьми: следует отделять агнцев от козлищ. Поскольку религия категорична и воинственна, она подталкивает недалеких и злых к насилию. Поскольку религия позволяет громко и высокомерно осуждать, она дает отличный повод ханжам. Поскольку религия ловко управляет людьми, она прельщает умных и непорядочных властью и обогащением. Поэтому число людей, которые одновременно умны, порядочны, терпимы и при этом религиозны, невелико. Не религия облагораживает человека, а человек облагораживает религию.
22. Религия именно такова, каково ее историческое существование, каким ее делают обычные прихожане и духовенство. Бессмысленно говорить, что есть еще и сущность религии. Теология и мистические переживания немногое значат для рядовых обитателей мусульманских стран Ближнего Востока или американских евангелических христиан, но только взаимодействие с им подобными для меня — плоды религии.
23. Трогательные фильмы, остросюжетные романы и смешные комиксы не могут лгать. В дискуссии о человеческой природе, судьбе, жизни и истории — это решающие аргументы.
24. Язык — это форма, в которой существует мысль. Правила языка определяют больше, чем мы обычно думаем. Сама форма предложений играет решающую роль. Религия в моем мире существует только в форме предложений, и вот об этих предложениях и следует судить.
25. О чем невозможно говорить, о том следует молчать.
1 По имени Чарльза Понци, одного из самых первых и самых известных создателей мошеннической финансовой пирамиды.
2 An Introduction to the Theory of Numbers, G.H. Hardy, E.M. Wright
3 Юм Д. Исследование о человеческом познании // Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 7.
4 Платон. Федон // Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2006. С. 21.
5 Там же. С. 22.
6 Там же. С. 23.
7 Там же. С. 22.
8 Там же. С. 23.
9 См. Книгу пророка Иезекииля 37:1–14, где представлена впечатляющая картина оживления мертвых по останкам скелетов.
10 Новая католическая энциклопедия [New Catholic Encyclopedia]. 1967. Т. XIII. С. 449–450.
11 Еврейская энциклопедия [The Jewish Encyclopedia], 1910. Т. VI. С. 564.
12 Платон. Федон. С. 47–48.
13 Там же. С. 50.
14 Там же. С. 47.
15 Платон. Федр // Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 2. Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2006. С. 185–186.
16 Там же. С. 187.
17 Там же. С. 189.
18 Там же. С. 194–195.
19 Там же. С. 203.
20 Платон. Государство, книга седьмая // Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 1. Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2007. С. 349.
21 Там же. С. 353.
22 Платон. Тимей // Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 1. Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2007. С. 510–511.
23 Там же. С. 511–512.
24 Там же. С. 523
25 Плотин. О благе или едином // Плотин. Сочинения. СПб.: Алетейя, 1995. С. 471–472.
26 Митрополит Иларион (Алфеев). Таинство веры, электронная версия.
27 Пико делла Мирандола Д. Речь о достоинстве человека. // Эстетика Ренессанса. Т. 1. М.: Искусство, 1981. С. 243–305.
28 Там же. С. 249.
29 Платон. Законы, книга X // Платон. Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 2. Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2007. С. 436–437.
30 Там же. С. 437.
31 Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 66.
32 Там же. С. 67.
33 Там же. С. 68–69.
34 Там же. С. 70.
35 Там же. С. 96–97.
36 Там же. С. 145.
37 Там же. С. 146.
38 Там же. С. 290–291.
39 Там же. С. 309.
40 Там же. С. 310.
41 Там же. С. 311.
42 Все пять доказательств: Святой Фома Аквинский, Сумма теологии. Часть I, вопрос 1–64, М.: Савин, 2006. С. 25–27.
43 Мысль о цели исторического процесса или существования человеческой жизни на Земле иронически обыгрывается Куртом Воннегутом в романе «Сирены Титана».
44 Бэкон Ф. Новый Органон // Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1972. С. 7–8.
45 Там же. С. 14.
46 Там же. С. 18–20.
47 Там же. С. 26–28.
48 Там же. С. 23.
49 Там же. С. 29.
50 Там же. С. 37.
51 Юм Д. Исследование о человеческом познании // Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 10.
52 Там же. С. 16.
53 Там же. С. 16–17.
54 У корреспондентной теории истины, восходящей к Аристотелю, есть свои логические проблемы, как это отмечают прагматики и дефляционисты, но разговор о тонкостях дефиниции «истинности» будет избыточен для целей дискуссии о религии.
55 Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. М., 1989. С. 133–145; Коршунов А.М. Теория отражения и современная наука. М., 1968; Украинцев Б.С. Отражение в неживой природе. М., 1969; Урсул Д.А. Отражение и информация. М., 1973.
56 Павлов Т. Теория отражения // Павлов Т. Избранные философские произведения в 4-х томах. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. Т. 3. С. 520–530; Никольская Т.К. Диалектика процесса познания. Саратов: Изд-во Сарат. университета, 1972. С. 46–51.
57 Юм Д. Исследование о человеческом познании. С. 20.
58 Там же. С. 23.
59 Там же.
60 Там же. С. 24.
61 Там же. С. 24–25.
62 Там же. С. 26.
63 Там же. С. 26–27.
64 Там же.
65 Там же. С. 28.
66 Там же.
67 Там же.
68 Там же. С. 29.
69 Там же. С. 32.
70 Там же. С. 33.
71 Там же. С. 36–37.
72 Там же. С. 40.
73 Там же. С. 47.
74 Там же. С. 50.
75 Там же. С. 59–60.
76 Там же.
77 Там же. С. 61.
78 Там же. С. 64.
79 Там же. С. 123.
80 Там же. С. 126.
81 Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума // Антология мировой философии. В 4-х т. М.: Мысль. Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. 1970. 776 с. с илл. С. 686.
82 Поппер К. Нищета историцизма // Вопросы философии. 1992. № 8. С. 49–79; № 9. С. 22–48; № 10. С. 29–58.
83 Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. С. 689.
84 Там же. С. 692.
85 Гольбах П. Система природы, или О законах мира физического и мира духовного // Гольбах П. Избранные произведения в двух томах. М.: Соцэкгиз, 1963. Т. 1. С. 116–117.
86 Ламетри Ж. Человек-машина // Антология мировой философии. В 4-х т. М.: Мысль. Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. 1970. 776 с. с илл. С. 609–621.
87 Там же. С. 615–616.
88 Там же.
89 Гольбах П. Система природы, или О законах мира физического и мира духовного. С. 121–122.
90 Там же. С. 122–123.
91 Там же. С. 125.
92 Там же. С. 139–140.
93 Там же. С. 145–146.
94 Там же. С. 161.
95 Там же. С. 184.
96 Там же. С. 185–186.
97 Там же. С. 188.
98 Там же. С. 209.
99 Там же. С. 210.
100 Там же. С. 213.
101 Там же. С. 356.
102 Там же. С. 357.
103 Там же. С. 367–368.
104 Там же. С. 385–386.
105 Там же. С. 394–395.
106 Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования // Э. Мах. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. С. 55–57.
107 Там же. С. 70.
108 Там же. С. 74–78.
109 Там же. С. 87.
110 Там же. С. 111.
111 Там же. С. 129.
112 Там же. С. 156.
113 Там же. С. 162.
114 Там же. С. 191.
115 Там же. С. 178.
116 Айер А. Язык, истина, логика. М.: Канон+, 2009. С. 45–46.
117 Там же. С. 48–49.
118 Там же. С. 49–50.
119 Поппер К. Логика научного исследования // Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. С. 46–47.
120 Там же. С. 51.
121 Там же. С. 54.
122 Там же. С. 55–56.
123 Там же. С. 63.
124 Этот принцип не касается также математических пропозиций, которые являются тавтологиями. Вопрос о методе математики выходит за рамки данной работы.
125 Перах М. Разумный замысел или слепая случайность? // Континент, 2001. № 1 (107). С. 338–363.
126 Dawkins Richard. The greatest show on Earth. New York: Free Press, 2009. P. 360–362.
127 Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом // Декарт Р. Сочинения в 2 т. Пер. с лат. и фр. Т. 2 / Сост., ред. и примеч. В.В. Соколова. М.: Мысль, 1994. 633. С. 20–28, 51–57.
128 Деннет Д. Онтологическая проблема сознания // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология) / Сост. Грязнов А.Ф. М.: ДИК, Прогресс-Традиция, 1998. С. 360.
129 Там же. С. 364
130 Там же.
131 Там же. С. 366.
132 Там же. С. 368.
133 Там же. С. 370.
134 Там же. С. 374.
135 Там же. С. 375.
136 Jackson F. Epiphenomenal qualia // Jackson F. Mind, method and conditions: selected essays. Routledge, 1998. P. 57–70.
137 Ibid. P. 57–58.
138 Kripke S. Identity and Necessity // Identity and individuation. New York University Press, 1971. P. 135–164.
139 Nagel T. What Is It Like to Be a Bat? // The Philosophical Review, Vol. 83, No. 4 (Oct., 1974). P. 435–450.
140 Jackson F. Epiphenomenal qualia // Jackson F. Mind, method and conditions: selected essays. Routledge, 1998. P. 63.
141 Nagel T. What Is It Like to Be a Bat? P. 436.
142 Ibid. P. 437.
143 Ibid. P. 441.
144 Глагол to quine введен в оборот самим Деннетом в сатирическом «Философском лексиконе», и он означает «категорически отрицать существование и важность чего-то реального и значимого».
145 Dennett D. Quining Qualia // Chalmers D. Philosophy of mind: classical and contemporary readings, Oxford University press, 2002. P. 226–246.
146 Dennett D. Consciousness Explained. Back Bay Books / Little, Brown and Company, 1991. P. 511.
147 Dennett D. Quining Qualia. P. 230.
148 Я использую словосочетание «чувственный опыт» в прямом смысле. Чувственный опыт существует физически. Слово «квалиа» используется как идиома эпифеноменализма.
149 В аналитической философии под знанием понимаются лишь предложения, но в данном случае я касаюсь не только предложений, но и психологических гипотез, поэтому и смешиваю понятия «опыта» и «знаний».
150 Лесных В.А. Современные гипотезы строения памяти // Искусственный интеллект: философия, методология, инновации. Материалы Четвертой Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Часть I. М.: Радио и связь, 2010. С. 56–58.
151 Miyawaki, Y. et al. (2008). Visual Image Reconstruction from Human Brain Activity using a Combination of Multiscale Local Image Decoders. Neuron 60: 915–929. http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(08)00958-6
152 Dennett D. Quining Qualia. P. 230.
153 На это утверждение Деннета можно возразить: не исключено, что «машина мозгового штурма» может быть откалибрована лишь одним-единственным способом в соответствии со структурными особенностями человеческого мозга, а не на основании сообщений участников опыта, а инверсия спектра всегда будет случаем несимметричного структурного дефекта.
154 Kalke W. What is wrong with Fodor and Putnam’s Functionalism // Nous, Vol. 3, No. 1. (Feb., 1969). P. 83–93.
155 Nagel T. What Is It Like to Be a Bat? P. 443.
156 Айер А. Язык, истина, логика. С. 149.
157 Там же. С. 150.
158 Там же. С. 156.
159 Для сравнения я привожу терминологию из английского издания, Ayer A. Language, Truth and Logic. Penguin Classics, 2001.
160 Айер А. Язык, истина, логика. С. 164.
161 Stevenson C. The Emotive Meaning of Ethical Terms // Mind, New Series, Vol. 46, No. 181 (Jan., 1937). P. 14–31.
162 Ibid. P. 17.
163 Ibid. P. 18.
164 Ibid.
165 Ibid. P. 23.
166 Ibid. P. 30.
167 Докинз Р. Бог как иллюзия. М.: Изд-во КоЛибри, 2008. С. 52.
168 Бутявка — персонаж филолога Людмилы Петрушевской, служащий примером того, что построенное по правилам грамматики из совершенно вымышленных, но имеющих падежные суффиксы слов предложение будет казаться нам имеющим смысл, хотя смысла в нем нет.
169 Докинз Р. Бог как иллюзия. С. 61.
170 Вульгарные чудеса в противовес «чудесам по совпадению». Невозможно опровергнуть утверждение о том, что совпадение естественных обстоятельств имеет некое сверхъестественное значение. Это классическое метафизическое предложение.
171 Айер А. Язык, истина, логика. С. 165.
Wyszukiwarka